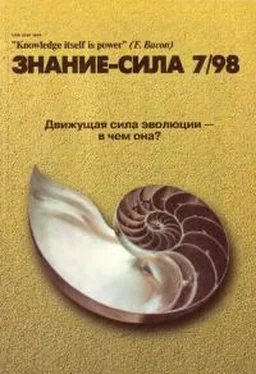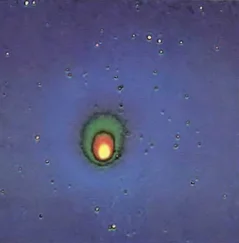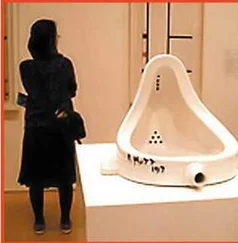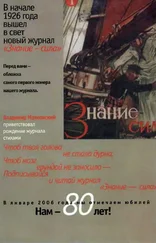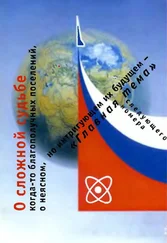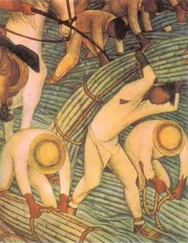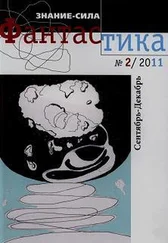Парадоксально, но патриарх Никон до 1658 года кажется фигурой наступающей, а царь — обороняющейся. Между тем это далеко не так. Никон как раз начал с того, что пытался возвратить церкви утраченное, иными словами, именно он «оборонялся», отражая наскоки светской власти, прибегнувшей к упомянутым уже статьям Уложения и Монастырскому приказу. И дело здесь не в характерах, сильном и слабом, а в эпохе: по мере централизации и движения монархии по абсолютистскому пути государство не могло мириться с особым статусом церкви. То было столкновение неизбежное, продиктованное всем ходом перемен, с заведомым поражением священства. Хотя Никон привнес в это столкновение много личного, прежде всего — идеологию. Здесь мы сталкиваемся еще с одним парадоксом. Когда Никон «сидел» на патриаршем престоле, эта «идеология» не получила сколько-нибудь полного изложения по той простой причине, что патриарху было недосуг. Он ее по большей части реализовывал интуитивно, в делах и в поведении, которые и должны были явить новые аспекты во взаимоотношениях светской власти и церковной. А впоследствии вынужденное «безделье», приправленное острой обидой на «неблагодарного» царя, побудило Никона по оставлении патриаршего престола заняться изложением своих взглядов. Лишившись посоха, он вооружился пером и немало преуспел, доказав, что столкновение его с Алексеем Михайловичем вовсе не было делом случая.
Никону были известны славянские переводы знаменитой Шестой новеллы императора Юстиниана I и текста «Эпанагога», определявших принципы взаимоотношений светской и церковной властей. Образцом для него было соправительство «богоизбранной диады», царя и патриарха, в исполнении Михаила Романова и Филарета, где последний лидировал и определял общее течение всех дел в государстве. В представлении Никона так и должно было быть, поскольку патриаршеская должность была выше в духовном отношении царской, занятой делами земными. Вот Никон и ратовал за восстановление знаменитой «симфонии» двух властей, где первой скрипкой была бы его собственная.
И не просто ратовал. Своим вмешательством в дела управления патриарх «потеснил» царский сан. Именно на этом сошлись многочисленные противники патриарха, начиная с могущественных бояр и кончая недавними друзьями, провинциальными ревнителями. С последними, быть может, патриарх сумел бы совладать, но перед искушенной в интригах аристократией даже могучему Никону было не выстоять.
Аристократии не надо было ломать голову над тем, как свалить патриарха. Царская приязнь — вот что следовало охладить шепотком и заморозить вовремя вставленным словцом.
В самом начале 1652 года было решено перенести в Успенский собор останки первых московских патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа II. Акции был придан характер торжества православной церкви, которая в лице ее святителей крепко стояла на страже веры. Особенно символично было имя Филиппа II. В трудные опричные времена Филипп осмелился возвысить голос против бессудных расправ Ивана IV, за что был низведен с митрополичья престола и позднее, в дни Новгородского похода, задушен. Трагичная судьба, мужественный поступок обращались во благо церкви, защитницы не только божественной, но и мирской правды.
Для Никона образ Филиппа — пример для подражания. И в дальнейшем все перипетии собственного пути соизмеряет он с судьбой митрополита.
Гроб с телом Филиппа находился в Соловецкой обители, где митрополит некогда игуменствовал. За гробом отправилось посольство Никона. Он вез с собой молитвенное послание к святителю Филиппу от Алексея Михайловича, в котором царь приносил публичную повинную за «согрешения прадеда нашего» Ивана Васильевича.
Но вот что примечательно. Уже тогда обнаруживается разница в позициях Никона и Алексея Михайловича. Она, правда, пока скорее улавливается в акценте, но это тот акцент, из которого рождается полное непонимание. В царском послании Иван Грозный, хоть и согрешил, но «неразеудно завистию и неудержанием ярости». Оценка же Никона категоричнее: царь Иван «возненавиде» митрополита за правду и, опалясь, поступил «неправедно». Для человека XVII столетия разница между «неразеудно» и «неправедно» — огромная. «Неправедно» — из арсенала высшего, сакрального. «Неразеудно» — приземленно и повседневно; неразумно и дитя, ослушавшееся родителей. Никон своим «неправедно» невольно возносит священство, подчеркивая его духовное превосходство над земными правителями. Позднее, разойдясь с патриархом, Алексей Михайлович в осмыслении позиции Никона еще решительнее расставит все точки над «Ь>: то было стремление патриарха унизить царский сан, нанести «бесчестье и укоризну блаженной памяти» Ивану Грозному.
Читать дальше