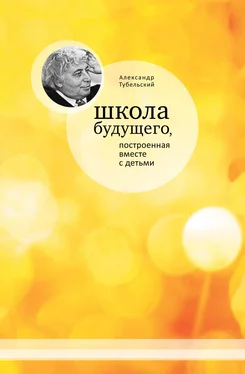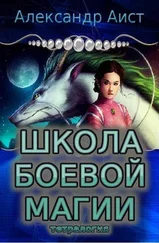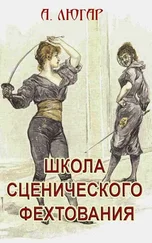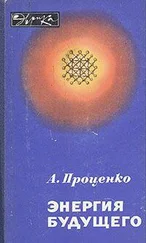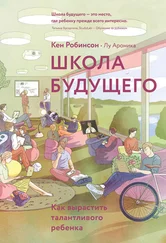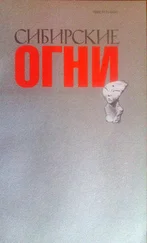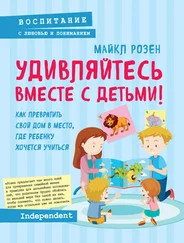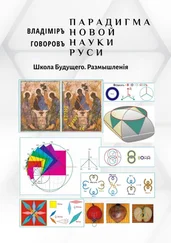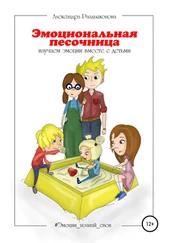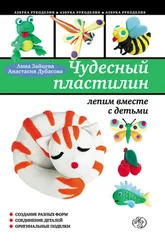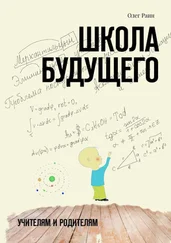– различные формы дифференциации школьников по способностям, включая наше отечественное изобретение последних лет – классы коррекции и специальные классы для одаренных детей (классы «дураков» и «ботанов», как их называют сами дети);
– структуру реальной власти в школе (тоталитарную или иерархическую, демократическую или либеральную);
– язык класса или школы (не по формальному признаку, а по реально действующим явлениям – семантике, тону, стилю и объему лексики);
– сложившиеся практики отвечать учителю то, что он ждет, а не то, что думает ученик;
– умение действовать в ситуации контрольной работы или экзамена (не культурные формы поведения в ситуации испытания, а сложившиеся правила списывания, подглядывания, угадывания и т. п.);
– реальное распределение учебного времени (не по учебному плану или расписанию, а фактически используемое время учеником: у одних оно занимает реально 12 часов в день, у других не наберется и получаса).
Все эти и другие феномены, эффекты или, выражаясь языком зарубежных коллег, скрытое учебное содержание сегодня не находятся в поле внимания ни учителей-практиков, ни школьных управленцев, ни исследователей, ни армии различных инспекторов и экспертов, которые за последние годы наводняют школу.
Возможно, именно благодаря эффекту скрытого содержания как раз и возникают те эффекты, которые не имеют никакого отношения к заявленному содержанию образования, но оказываются гораздо значимее.
Уклад, доставшийся по наследству
Не присутствовал ли в советской школе спонтанно (хотя в данном случае, возможно, и целенаправленно) такой ее дух, такой уклад, который в большей степени влиял на ход образования и его результаты, чем все замечательные программы по основам наук? Этот уклад может быть охарактеризован как господство единственно правильного мнения, как линейность, одномерность самого содержания учебных предметов.
Может быть, эта одномерность и есть главная характеристика доставшегося нам в наследство школьного устройства? Вот готовое знание, которое излагает учитель, вот система упражнений, которые обеспечивают применение этих правил в единственно возможных ситуациях, а вот система контроля, которая обнаруживает наличие/отсутствие отступлений от этих правил.
После соответствующей оценки на контрольных ли, на экзаменах ли, на прочих срезах знаний человек может делать с этим суррогатом все, что хочет. Мы это и делали, выбрасывая после очередной проверки из головы 80–90 процентов всех этих сведений про тычинки-пестики, амфотерные гидроксиды и характеристики зрелого социализма.
Ко всему этому надо прибавить иерархическое устройство школы, надежду на хорошего директора – отца родного – или на доброго инспектора, который что-то не заметит, а то и будет заинтересован в явной «липе». Этот дух двуличия, двойных стандартов при подходе к реальности (она как бы существует, но в определенных ситуациях ее следует не замечать) и сегодня процветает во многих школах, и сегодня определяет профессиональное сознание многих учителей.
…Я все время задаю себе вопрос, почему при унизительных процедурах нынешней аттестации и школ, и педагогов учителя так слабо возмущаются, не протестуют. Дело не только в том, что забота о неполученной или мизерной зарплате заслонила собой проблему самоуважения и достоинства.
Дело в том, что такой уклад позволяет справиться с этим унижением при помощи умения написать о том, чего нет, построить график неуклонного повышения «уровня обученности», списать чужую образовательную программу и выдать ее за свою, авторскую.
Этот дух, этот стиль отношений передается детям, закрепляется в их опыте и способах действий, а потому является компонентом содержания образования, компонентом, не зафиксированным в программах, специально не планируемым и не контролируемым.
История новаций как история разных школьных укладов
С другой стороны, анализ известных культурно-образовательных систем (школ Марии Монтессори и Селестена Френе, вальдорфской педагогики, Йена-план школ и др.) показывает, что в них важным компонентом содержания образования является особое устройство учебного процесса, особый стиль отношений, особые ценности, которые закреплены в соорганизации взаимодействия, в писаных или неписаных правилах жизни.
Не удивительно ли, что при сравнительно традиционном содержании учебных предметов выпускники этих школ отличаются какими-то специфическими способностями и качествами личности? Про них профессора западных университетов говорят: «Они знают то же, что и другие, примерно в том же объеме, но у них есть что-то такое, что позволяет им быть успешнее».
Читать дальше