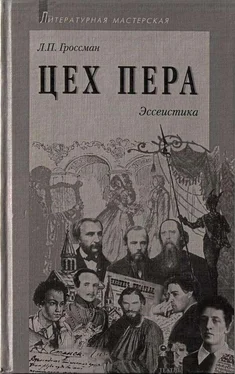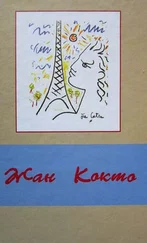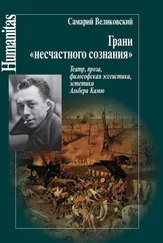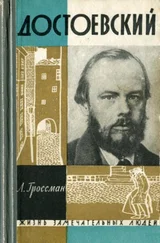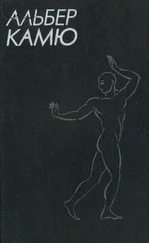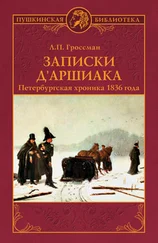Ср.: «Если простое подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании, манера — на восприятии явлений подвижной и одаренной душой, то стиль покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей» (Гете И. В. Простое подражание природе, манера, стиль // Собр. соч.: В 10-ти т., М., 1980).
Статья «Тютчев и сумерки династий» ( см.настоящее издание).
Доходящие до нас сведения о работе европейской литературной науки за последние годы свидетельствуют, что основное направление здесь сводится к изучению художников слова в цельном и полном охвате их творчества. Вот почему наряду со специальными исследованиями по стиху того или иного поэта, в подавляющем большинстве выходят работы, глубоко захватывающие духовную структуру словесного искусства. Таковы в Италии работы Бенедетто Кроче «Поэзия Данте», «Ариост, Шекспир и Корнель», книга о Стендале, работа Джузеппе Джильи «Бальзак в Италии», книга Пассерини «Il ritratto di Dante», в Германии работа Стефана Цвейга о французской поэтессе Дэборд-Вальмор, Эрнста Кассирера «Идея и форма» (о Гете, Шиллере, Гельдерлине, Клейсте); в Англии — исследования о Свифте, Верлене, новая биография Гете, работа о «Данте в Англии»; во Франции такие исследования, как «Французские писатели в Голландии», «Альфред де Виньи и Фридрих II», «Itineraire intellectuel» (о Шарле Пеги) и мног. др.
Соч. Пушкина, изд. Академии наук. Переписка. I, 83. В следующем году в новом черновике письма к тому же корреспонденту Пушкин возвращается к этому отзыву: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier. Но он из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией». (123).
Правдивость пушкинского отзыва санкционировал впоследствии знаменитый сонетист Жозэ Мария де Эредиа, много проработавший над рукописями Шенье для критического издания его буколик. «В своих стихах, отмеченных такою новизною, он сосредоточил сущность античности и навсегда охватил ее благоуханием французскую лирику». Так ранний отзыв Пушкина через восемь десятилетий освящается авторитетом одного из самых замечательных поэтов и эрудитов конца столетия. J.M. de Hérédia «Le Manuscrit des Bucoliques». Предисловие к изд. стихотв. Шенье — Maison du Livre, 1906.
Трудно согласиться с мнением академического издания сочинений Пушкина (VI, 184), что этот «перевод почти дословно верен подлиннику». Сближение этого отрывка с фрагментом Шенье было сделано впервые П. О. Морозовым (Соч. Пушкина, I, 339; Венгеров II, 614).
Несколько произвольный и едва ли правильный комментарий к «Музе» дает С. Любомудров («Античные мотивы в поэзии Пушкина», 1901, с. 24 — см. Соч. Пушкина, ак. изд., II, прим. 23). По словам исследователя, при переделке Пушкин заменяет какого-то неизвестного учителя французского оригинала грациозным образом Музы, и пьеса оживает. Что рисует нам Шенье? Тесная комната, пюпитр с нотами, играющий учитель, прилежный ученик; как это все прозаично, как это все пригляделось! «У Пушкина — это урок Моцарта, подобно тому, как в пьесе Шенье — урок Сальери»… Но в стихотворении Шенье нет решительно никаких упоминаний «тесной комнаты, пюпитра с нотами», ни даже отдаленных оснований предполагать их; и, конечно, представившийся здесь исследователю образ музикуса в длиннополом сюртуке и стиль менцелевского «Концерта в Сан-Суси» не имеют ничего общего с антологическим фрагментом Шенье. Это один из его лучших отрывков в древнем роде, темой которого служит буколическая сценка античного мира; это не прозаичный, приглядевшийся — «будничный урок музыки конца 18 в.» (заметим, кстати, что Шенье менее всего склонен к такой жанровой живописи современного быта), а такой же фрагмент античной, как и прочие, идилии Шенье. Это не стиль менцелевского концерта, а полная свежести идиллическая картинка из древнего мира. «Сальеризма» здесь так же мало, как и «моцартизма» в пушкинской Музе. Имена композиторов 18 в., хотя бы и в философском отвлечении, нельзя примешивать к этим образцам антологического рода.
Впервые замечено Анненковым. (Соч. Пушкина, I, 312). Стих этот взят из XXV элегии Шенье (Венгеров, II, 547).
Это совпадение отмечено Юрием Верховским в его очерке «Пушкин и Шенье». Соч. Пушкина, ред. Венгерова. II, 581–584.
П. Е. Щеголев. Пушкин, 291–292.
Уже в классическую эпоху старый александриец подвергался некоторым изменениям. Наиболее утонченные поэты той поры — Расин и Лафонтен — действительно позволяли себе обращаться свободно с этим неподвижным и строгим стихом. Они ввели в него ряд новшеств, признанных только романтиками. Но сферу применения этих свобод они сами ограничили: Расин пользовался разбитыми александрийцами преимущественно для комедий, стремясь придать своему стиху прозаичность и юмор разговорной речи; Лафонтен ввел свой освобожденный alexandrin в басню и сказку. Во всех остальных случаях классический стих сохранял все строгие свойства, предписанные Буало, и отступления от них нужно рассматривать как поэтические вольности.
Читать дальше