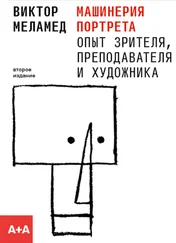Пойдем, поэт,
взорлим,
вспоём
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое, а ты — свое,
стихами.
И опять-таки: никакого сомнения не было у слушате лей,что буде солнце заговорило бы, его голос, горячий темперамент,проникновенность его речи были бы именно такими,как их воспроизводил Маяковский.
После слов солнца Маяковский как бы отступал для последнего, завершающего призыва к слушателям. Им казалось, что декларация солнца — уже кульминация всей вещи. И в самом деле, трудно человеку, дотоле не читавшему стихотворение «Солнце», представить себе, что можно «перекрыть» вышеприведенное предложение со стороны светила…
А Маяковский произносил взволнованно и быстро следующие фразы:
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма — сияй во что попало!
Еще быстрее проговаривались строки:
Устанет то,
и хочет ночь прилечь,
тупая сонница.
И внезапно для слушателей ритм замедлялся, голос делался еще более громким. Жесты и мимика приготовляли к чему-то крайне значительному:
Вдруг — я
во всю светаю мочь…
Самоесущественное, что и тут ни у кого не возникало сомнений втом, что появление поэта после ухода солнца — событиевоистину равное, нет — еще большее, нежели вос ход настоящегосолнца…
Какаяже убежденность в собственной силе, в таланте, в нужностилюдям была у Маяковского, чтобы осмелиться на эти строки ив написании стихов, и в ихпроизнесении!..
А Маяковский уже гремел (именно гремел, а не произ носил)последнее четверостишие. Оно звучало, как «тутти» оркестре,которым заканчивалась симфония. До этих ак кордовуже
двадцать тактов весь состав оркестра играл форте ифортиссимо.
Кажется, что больше ничего нельзя
прибавить к силе звука, к волнительности мощного контрапункта. Но вот еще и еще напружились поднятые кверху руки дирижера, он глянул в сторону медной группы и ударников, кивнул концертмейстеру первых скрипок, бросил рассеянный взглядна флейтистов икларнетистов, и вы слышите, что все предыдущее перекрыто новымгромом, ко торый заставляет трепетать самих оркестрантов. Итут действительно— конец симфонии: дойдя по предела возможностей, музыка не затихает, а обрывается в тишину, которая— так кажется — вся еще наполнена отзвуками того, что мы слышали…
Так вот и четыре завершающие строки Маяковский выдыхает, словно в его распоряжении не голосовой и дыхательный аппарат одного (пускай даже очень крупного) человека, а полный состав оркестра. Это — итог симфонии, то есть маленькой поэмы о посещении солнцем поэта. Он звучит как лозунг. Как девиз ко всей жизни поэта. Как приглашение к людям следовать по его пути:
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца, светить —
и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!
Маяковский выделяет голосом слово «мой». После этого «мой» скромнее произнесено «и солнца». Маяковский подчеркивает и здесь, в финале, что он сам важнее солнца. Почему?
Потому что солнце светит, в сущности, всюду и всем. Всегда. А Маяковский — наше советское светило. Его «свет стихами» сопряжен с тем, что дала и дает нам Октябрьская революция, партия, советская власть. В этом огромная доля величия поэтической деятельности Маяковского. И это дает ему право ставить себя наравне и даже выше солнца…
Что говорить — аудитория была не очень подходящая для такого стихотворения. Но то обстоятельство, что Владимир Владимирович завоевал своим выступлением эту неподходящую аудиторию, только подчеркивает силу его творчества. А на собственных вечерах, когда в зале девяносто процентов была сочувствующая ему молодежь, Маяковский непременно вызывал овацию этим стихотворением в сто строк…
МАЯКОВСКИЙ У НАС В ГОСТЯХ
Как уже сказано, я дружил с О. М. Бриком. Он бывал сравнительно часто у нас в Москве (в то время я был женат на Ирине Константиновне Ивановой). Очевидно, дома у себя Осип Максимович рассказывал о нас и Лиле Юрьевне и Владимиру Владимировичу. Да он — Осип Максимович— не раз и сам говаривал:
— Вот я вчера описал дома, как это было у вас здесь…
В результате и мои отношения с Маяковским стали в какой-то мере ближе. Я не смею сказать, чтобы я сделался даже приятелем поэта. Но при встречах нам уже было очем толковать: каждый из нас имел информацию о другом из уст доброжелательного единомышленника…
Осенью 1927 года я переехал с женой в Ленинград, так как получил приглашение стать заведующим литературной частью Ленинградского театра сатиры. Вернулись мы в Москву только в начале 1928 года.
Читать дальше

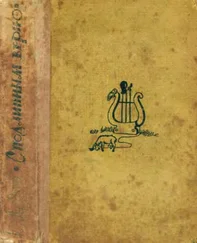
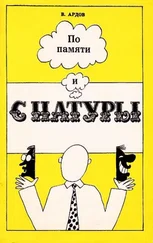


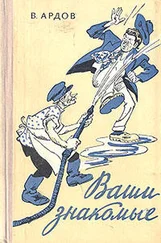


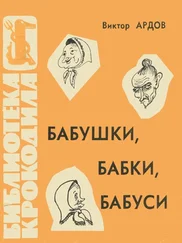
![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/405146/viktor-ardov-terem-thumb.webp)
![Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/437203/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p-thumb.webp)