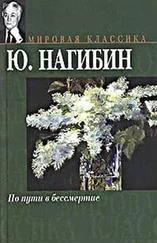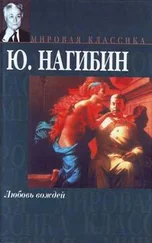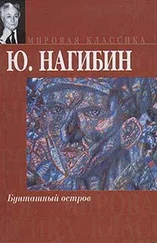Юрий Нагибин
Хранитель Лукоморья
В Успенском соборе Святогорского монастыря стоял такой холод, какой может быть лишь в неотапливаемом русском храме студеной вьюжной февральской ночью. Казалось, вьюга проникла вместе с нами внутрь собора: пламя тонких свечек в закоченевших руках то начинало метаться, то вытягивалось длинным языком, гоня кверху тени, то пригибалось долу. Пар от дыхания оседал инеем на воротниках наших шуб, на стенах и потолке соборного придела, где сто тридцать четыре года назад, хоть и не день в день, стоял гроб с телом Пушкина, доставленный сюда попечением Александра Тургенева и дядьки поэта Никиты Козлова, в сопутствии жандармского капитана Ракеева.
К изножию воображаемого гроба широко шагнул высокий, худой, с резко высеченным лицом Семен Степанович Гейченко, хранитель Пушкинского заповедника, — как-то не идет к нему сухое, официальное «директор» — и, взмахнув, как крылом, пустым левым рукавом шубейки, заговорил доверительно, огорченно и убеждающе:
— Прости, Бога ради, Александр Сергеевич, что не сниму я нынче шапку. Каждый год страшнейше простужаюсь в этом холоде. Старое корыто — ничего не поделаешь!..
Вокруг стояли разные люди: пушкинисты, писатели, художники — давние гости заповедника и сердечные друзья самого Гейченко, а еще — молодые ленинградские артисты, участники торжественного — вечера, и просто случайные зашельцы. Никто не улыбнулся, не сделал больших глаз, не перемигнулся с соседом: мол, чудит старик! Даже люди, сроду не бывавшие здесь, не осведомленные о своеобычной повадке Гейченко, восприняли его слова как нечто вполне естественное. Он был так серьезен и прост, так по-домашнему огорчен тем малым непочтением, какое оказывал сегодня Пушкину, не сняв с головы поношенной меховой шапки, что каждая живая душа в этом промозглом, озаряемом слабыми свечками храме поняла его веру в незримое присутствие Пушкина.
А затем Гейченко стал рассказывать, как внесли сюда тяжелый холодный гроб с маленьким, каменно закоченевшим в долгом пути из Петербурга телом Пушкина, как горели и оплавлялись свечки в руках Михайловских дворовых, и в который раз меня пронизало чувство, будто слышу голос очевидца. Право же, Гейченко был в Михайловском во времена Пушкина, делил печали и утехи ссыльного поэта, толкался с ним по базарам, слушал песни цыган, ездил в Тригорское к Осиповым-Вульф, потешался над попом-шкодой, внимал плавным речам Арины Родионовны, томился его тоской по друзьям и свету, радовался сроднению с негромкой сельской жизнью, а в час расставания в мерзлом храме коснулся губами ледяного чела поэта…
Друзья прозвали Семена Степановича Михайловским домовым. Тут нет и тени насмешки. Он это знает и, приняв дружеское прозвище, нередко так и подписывается в письмах. Мне думается, прозвище даже немного льстит хранителю лукоморья — ведь с какой доверительной нежностью обращался Пушкин к своему домовому:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес, и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель.
Поручая заботе и призору домового зеленый мир Михайловского, столь дружественный музе, поэт трогательно напоминал, что эти холмы, луга, прохладные липы и шумные клены «знакомы вдохновенью».
Не в укор старому домовому — да и кто отважится на подобную вольность с доброй нежитью, воспетой Пушкиным? — скажу, что нынешний Михайловский радетель не нуждается в поэтическом заклинании беречь «зеленый скат холмов». Он всегда, неусыпно на страже…
Мы, друзья Гейченко, завсегдатаи пушкинских мест, слушая живые, то нежные, то забористые, рассказы Семена Степановича о разных разностях и нынешней, и минувшей жизни, нередко принимались упрашивать его взяться за перо. Он так полон сведений о Пушкине, о людях, деливших и усугублявших сельское одиночество поэта, об окружавших его вещах, он принял разрушенное, сожженное, взорванное фашистами пушкинское гнездо и, собрав его по щепке, по камешку, восстановил первозданный образ, — кому же, как не ему, рассказать обо всем этом читателям! Потом оказалось, что Гейченко давно уже в секрете от друзей поверяет свои думы и воспоминания бумаге. Для своих записей он избрал форму маленьких новелл, порой приближающихся к стихотворениям в прозе, только без тургеневской напевности. Это строгая, мужественная проза, не заигрывающая с поэзией, но насыщенная лиризмом.
Мне посчастливилось в свое время с голоса Гейченко услышать два или три коротеньких рассказа, они меня обрадовали и насторожили… Хватит ли у автора душевного и физического времени на целую книгу подобных, тонкого словесного отбора, новелл? Гейченко — человек почти непрерывного активного действия; Покой чужд ему по самой его природе.
Читать дальше