Автобусы и троллейбусы появились в России уже после революции, поэтому отражения в старой классической литературе не нашли.
Другие средства передвижения
Пароходы стали ходить в России с ноября 1815 года, сначала из Петербурга в Кронштадт. Долгое время они именовались ПИРОСКАФАМИ, что по-гречески означает огненное судно. Пушкин в 1830 году писал: « Уже воображал себя на пироскафе… Пироскаф тронулся — морской, свежий ветер веет мне в лицо ». Этой « могучей машине » Баратынский в 1844 году посвятил стихотворение под названием «Пироскаф». В «Петербургских заметках 1836 года» Гоголь, описывая столичную весну, отмечает: « Дымясь, влетел первый пароход ». Впервые же это слово в современном значении появилось в петербургских газетах в 1816 году.
Мы давно привыкли к тому, что КАТЕР — небольшое судно на двигателе внутреннего сгорания, и поэтому не без удивления узнаем, что герои «Бесприданницы» Островского, задолго до изобретения такого двигателя, совершают прогулку на катерах по Волге, а Викентьев в «Обрыве» Гончарова говорит Марфеньке, которая боится переправляться через Волгу: « Я за вами сам приеду на нашем катере ». Однако в обоих случаях речь идет о гребном катере — большой прогулочной лодке. На таком катере, с 24 гребцами, катался еще Чичиков, гостя у помещика Петуха (второй том «Мертвых душ»).
АВТОМОБИЛИ появились в России в самом начале XX века, и вскоре мы находим это слово на страницах русской литературы — у Горького, Куприна, Бунина. Любопытно, что наряду с «автомобиль» у Бунина употребляются слово «экипаж» и вполне привычное для нашего слуха «машина», а у Блока в этом значении применяется МОТОР:
Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор.
(«Шаги командора», 1912 год).
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
БЫТ И ДОСУГ
Действие большинства произведений русской классической литературы происходит в дворянских домах и имениях.
Сразу же необходимо предостеречь читателя от идеализации дворянского быта, начиная с жилья. Мы склонны судить о барских домах по уцелевшим крупным особнякам, даже дворцам, затем превращенным в музеи, санатории, институты. Иллюзию, что в таких зданиях обычно и обитали русские помещики, поддерживают некоторые кино— и телефильмы на исторические темы. Но знакомые нам бывшие барские дома, как правило, каменные, принадлежали богатым вельможам, имевшим возможность построить и отделать их со всевозможной роскошью, привлекая талантливых архитекторов и художников. Большинство же домов помещиков средней руки были бревенчатыми, не всегда даже оштукатуренными, небольших размеров, иные — с крепкую современную деревянную дачу, без особых удобств и затей. Тысячи этих домов были перестроены, разобраны на продажу или сгорели еще до революции или в революцию. К нашему времени бывших помещичьих домов остался ничтожный процент.
В своих произведениях русские классики приводят множество правдивых описаний типичных среднепоместных и мелкопоместных имений. Надо только внимательно вчитаться.
У Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева — « ветхий господский домик… с кривым крылечком ».
У помещика Маркелова в «Нови» « собственно и усадьбы не было никакой: флигелек его стоял на юру, недалеко от рощи… Все казалось бедным, утлым, и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо ».
Усадьба Чертопханова в «Записках охотника» состояла « из четырех ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани ».
А вот рассказ того же Тургенева «Конец»: « Дом Талаганова, маленький, приплюснутый, полусгнивший, похож был скорее на плохую крестьянскую избу, чем на жилище помещика ».
И все это — в середине XIX века, до крестьянской реформы 1861 года, то есть в то время, когда помещики оставались господствующим классом России и далеко еще не разорились и не обеднели в общей своей массе.
Вспомним и Татьяну Ларину, которая называет свой родной дом « наше бедное жилище ».
Впрочем, дело было вовсе не всегда в достатке хозяина-душевладельца. Причиной могли быть и скаредность, некультурность, равнодушие к комфорту.
Дом состоятельного Собакевича в «Мертвых душах» крепок, но неказист, « вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов ». У богатейшей Арины Петровны Головлевой в романе Салтыкова-Щедрина — « печальная усадьба… на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта… Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод ».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
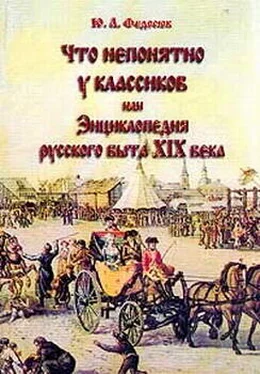

![Алексей Вдовин - Серый мужик [Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века]](/books/29083/aleksej-vdovin-seryj-muzhik-narodnaya-zhizn-v-rassk-thumb.webp)








