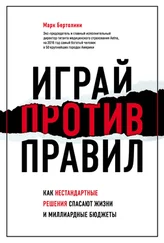Студенты, которых спросили, «насколько быстро двигались машины, когда они налетели друг на друга» , в среднем оценивали скорость на 9 миль больше, чем те, кому задавали вопрос: «как быстро ехали машины, когда они соприкоснулись ». Таким образом, Лофтус и Палмер заключили, что формулировка вопроса, даже если меняется только одно слово, может заметно сказаться на том, как люди воссоздают свое воспоминание о событии.
Результаты второго эксперимента оказались еще более любопытными. В этот раз Лофтус и Палмер предложили 150 студентам просмотреть минутный ролик, содержащий четырехсекундный эпизод столкновения нескольких машин. У 50 студентов спросили: «Как быстро ехали машины, когда они налетели друг на друга?» У других 50 спросили: «Как быстро ехали машины, когда они ударились?» Остальных не спрашивали о скорости движения машин. Затем студентов собрали спустя неделю и, не показывая фильм вновь, задали им ряд вопросов. На этот раз ключевым вопросом был следующий: «Видели ли вы разбитое стекло в эпизоде автокатастрофы?»
Лофтус и Палмер обнаружили, что, спрашивая студентов, «как быстро двигались машины, когда те налетели друг на друга », они не только заставили их думать, что машины ехали быстрее, но и вынудили большую часть из них спустя неделю «вспомнить», что в эпизоде было видно разбитое стекло. Результаты со статистической достоверностью показывают разницу между тремя условиями эксперимента. Но самое интересное – в ролике ни разу не появлялось разбитое стекло. Субъекты, представлявшие налетевшие друг на друга машины, сами создали его в своем воображении!
Цена ограничений
Кроме ограничений, которые мы подчас непроизвольно вводим, формулируя задачи, при ее решении многие излишне ретиво стараются выполнить все инструкции и предписания, регламентирующие работу.
Приведу конкретный пример. На занятии с преподавателями вузов по повышению их квалификации я рассказывал о нетрадиционном способе проведения зачетов и экзаменов, позволяющем за полтора-два часа точно оценить знания группы студентов. Экзамен в студенческой группе, проводимый обычным способом, занимает около шести-семи часов. «Вот экономия времени, которую можно использовать для научной работы».
«А что, деканат не возражает?» – спросил слушатель М.
«Деканат интересует одно: чтобы экзамен состоялся в назначенное время и чтобы у студентов не было претензий по поводу его объективности. Еще ни разу студенты не жаловались; наоборот, они довольны тем, что испытание проходит так быстро и каждый получает заслуженную оценку».
«Но ведь вы нарушаете нормативы. Вам в нагрузку идет треть часа за каждого экзаменуемого. То есть вы должны сидеть на экзамене восемь часов», – настаивал М.
В разгоревшейся дискуссии преподаватели пришли к выводу, что: 1) столь ревностное следование инструкции никому не нужно, ибо нормативы не цель, а средство, цель же – объективная оценка знаний студентов; 2) преподаватель имеет право на творчество; 3) для научной работы времени обычно не хватает, и ценны любые попытки выкроить его. Разгоряченные участники дискуссии посоветовали М. пересмотреть свое отношение к инструкциям, нередко устаревшим. И даже предположили, что отсутствие у него научных работ – возможно, следствие его догматического подхода к предписаниям.
Мышление и качества личности
Цена настойчивости
Выдающийся изобретатель Томас Эдисон держал целый институт экспериментаторов, которые, например, в поисках нужного материала для нити накаливания электрической лампы провели многие тысячи опытов, испытывая все имеющиеся под рукой материалы. В ход шли известные металлы и сплавы, обугленные нити из шерсти, шелка, бристольского картона, бумаги и даже человеческого волоса. По заданию Эдисона его сотрудники ездили в Бразилию, Китай, Японию и другие страны для поиска и сбора различных видов растений, например бамбука. Как показывали опыты, обугленные палочки из некоторых сортов бамбука достаточно хорошо работали в качестве нити накаливания.
Эдисон получил несколько десятков патентов на разные виды нитей накаливания для лампы. Однако работоспособность ламп с этими нитями все еще была низкой. Лишь значительно позже Эдисон понял основную причину этого: кислород, который все же оставался в колбе после откачки из нее воздуха, окислял материал нити, и она разрушалась. После этого стали делать высоковакуумные лампы или заполнять их полость инертным газом. Долговечность работы лампы резко увеличилась. Теперь нить накаливания можно было делать из обычных тугоплавких металлов, которые к тому времени стали уже не столь дефицитными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
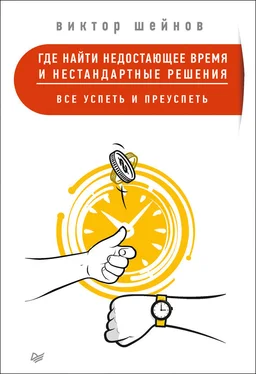
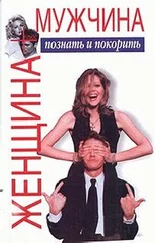
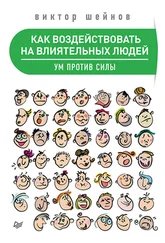
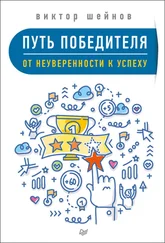
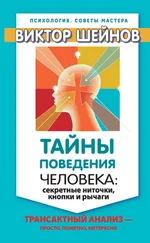
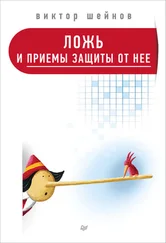
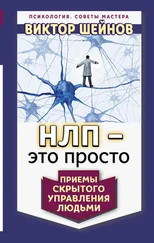
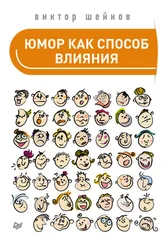
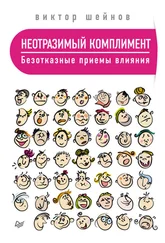
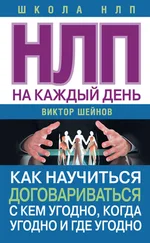
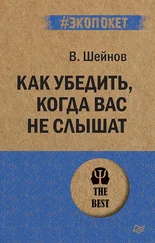
![Виктор Шейнов - Развиваем мышление, сообразительность, интеллект [Книга-тренажер]](/books/404204/viktor-shejnov-razvivaem-myshlenie-soobrazitelnost-intellekt-kniga-trenazher-thumb.webp)