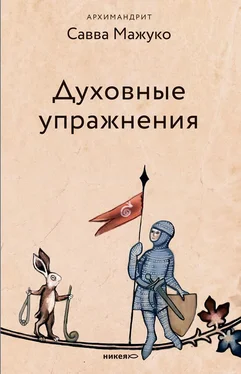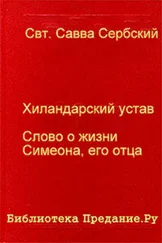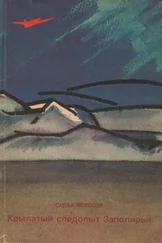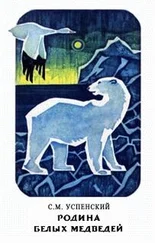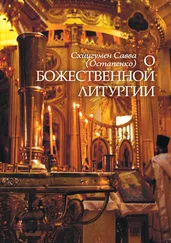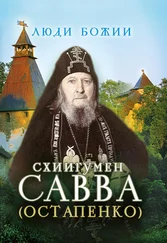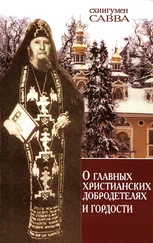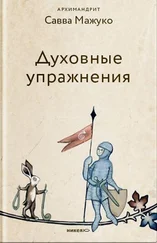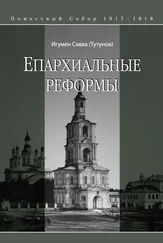И христиане снова вспомнили, что Учитель с самого начала называл их малым стадом . Но ведь раньше было так много людей, была такая крепкая вера. Мне кажется, все это торжество и многолюдство было связано с тем, что многие из человеческих запросов в те времена решались только религиозно, других способов просто не было. Университеты были церковными, наука развивалась при монастырских школах, священники были психологами, психиатрами и учителями, библиотеки и больницы были при обителях, и одинокому человеку часто просто некуда было идти, и, чтобы не умереть с голоду, он шел в монахи.
Сегодня у нас есть система здравоохранения, государственные школы и научные центры, консерватории и филармонии, досуговые центры и психологические тренинги, а главное, все умеют читать и нужду в высоком удовлетворяют тем, что не так пугает. Потребность в смыслах и мистике можно успокоить литературой, кино и компьютерными играми. И, признаться, я этому только рад. Если в Церкви вы ищете психологической помощи или эстетических восторгов, лучше сходите к врачу или навестите музей. Евангелие не об этом.
Мой торопливый и сильно скупой набросок истории христианской культуры не более чем авантюра и упрощение. О средневековой культуре написаны целые библиотеки книг. Зачем нам вглядываться в эти пыльные фолианты? Какое отношение это имеет к духовным упражнениям?
Самое прямое. Мы умозрительно различаем христианство и религию. Христианство несводимо к религии, которая есть врожденная нам способность оформлять и означивать наш опыт веры. Религиозные и культурные формы, символические одежды, в которые мы облекаем наш духовный опыт, универсальны, они принадлежат области естественной духовности, тварной или имманентной. Религия — это кристаллизация опыта веры, оформление глубоко интимного опыта личной встречи с Богом.
Вера и религия между собой соотносятся как мед и сахар. Мед постоянно засахаривается, и от верующего требуется постоянное усилие в том, чтобы добраться до сути. Каждый раз мы вынуждены взламывать застывшую сахарную корку, чтобы понять, зачем все это. Это постоянное духовное упражнение, непрерывная внутренняя работа, которая необходима как для всего церковного общества, так и для каждого христианина в отдельности. Нельзя позволить своей вере застыть и «завершиться».
Вера — это процесс, динамическое состояние, постоянное вопрошание:
кто я?
в вере ли я?
верующий ли я человек или просто религиозный?
Но большинству достаточно сахара.
В XVII веке Русская Церковь пережила трагедию, раны от которой кровоточат до сих пор. При патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче произошел церковный раскол, который называют старообрядческим.
Говорят, что и у патриарха, и у царя были большие политические проекты, которые почему-то требовали унификации обрядов Русской Церкви с обычаями православных греков. Так появилось троеперстие, тройное аллилуия, изменения в богослужебном уставе и прочие новшества, совершенно не принципиальные, не касающиеся веры. Но они всколыхнули народ, тем более что вводилось все это грубой силой, варварски и без церковного обсуждения. Доведенные до отчаяния люди стали устраивать гари: заколачивались в церквях и срубах с женами и детьми и сжигали себя, ожидая скорого конца света.
Люди шли на смерть ради верности обряду. Почему они так болезненно принимали обрядовые изменения? Потому что это сфера религии, область тонких духовных переживаний. Мы порицаем людей, жарящих на Вечном огне сосиски, называем их кощунниками, потому что память войны — это память страшной человеческой боли, и если у тебя нет сочувствия к страданиям миллионов, может, у тебя и вовсе нет сердца?
Религиозная символика и обрядность — это тоже область глубоко интимных переживаний. Здесь требуется деликатность и учтивость, которой не отличалось правительство Алексея Михайловича. И пострадало много невинных людей. Но у этой трагедии есть и духовное измерение. Старообрядчество было одним из самых первых диссидентских движений в России.
Они боролись за свои права. Но их нельзя назвать христианскими мучениками, потому что они шли на смерть не ради Христа, а ради религии, умирали за обряд. И при всей симпатии к этому движению христианским его назвать не могу.
Мировоззрение старообрядцев вполне средневековое. Это упорядоченный космос, иерархически устроенный, и на вершине этой иерархии — Бог. У Него есть свое законное место. Но христиане верят в Нездешнего Бога. Ему нельзя указать Его место, Его нельзя «приручить» или посадить на цепь. Он — не часть тварного мира.
Читать дальше