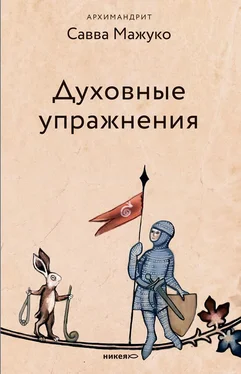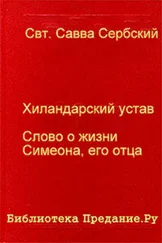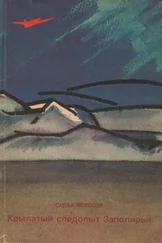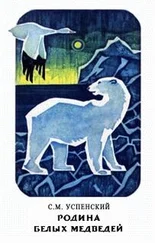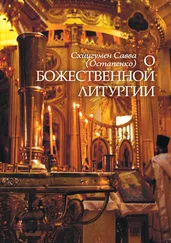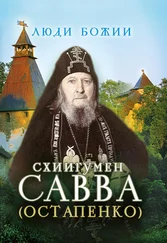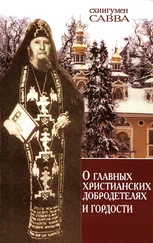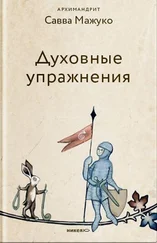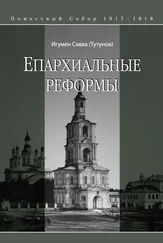Не случайно Деяния апостолов принято внимательно читать в Великую Субботу, в канун Христовой Пасхи. Большая часть этой удивительной книги посвящена не деятельности двенадцати учеников, а благовестническим трудам апостола Павла. Он совершил то, на что не решились «самовидцы» Распятого Учителя, он дерзнул отделить христианство от религии.
Двенадцать апостолов проповедовали только в иудейской среде. Господь давал удивительные знамения, звавшие благовестников ко всем людям, потому что Воплощенный Бог — Сочинитель и римлян, и русских, и китайцев, и африканцев — у Него нет лицеприятия, Его Любовь к людям не знает разделения на расы, народности, возраст и пол. Все люди — дети Божьи, братья и сестры — друг другу и Воплощенному Богу. Однако ученики с невероятным упорством держались берегов иудейской общины.
Вспомните первые главы книги Деяний. Верующие продолжали посещать Иерусалимский храм, исполнять все положенные обряды. Исключением было преломление хлеба по домам — Евхаристия — единственный обряд, завещанный Учителем. Своих детей иудеохристиане продолжали обрезывать, приносить в храм, и мы можем предположить, что и религиозный календарь, и обряды брака и погребения у них сохраняли специфически иудаистские черты.
Апостолы творили невероятные чудеса. Дух Святой был с ними. Но даже эти откровения с большим трудом подвигли апостола Петра навестить сотника Корнилия, который не был иудеем, и апостол, согласно Закону, не должен был с ним общаться и уж тем более приобщать его к великой тайне Мессии. Но пока Петр колебался, Дух Святой сошел на Корнилия, и это случилось до того, как он был крещен.
Эта история «перевоспитания» святого Петра очень помогла апостолу Павлу на знаменитом Иерусалимском соборе, где первоапостолы решали судьбу христиан из язычников.
В результате проповеди «апостола языков» Церковью стали люди неиудейского происхождения. Это значило, что они вышли из своих традиционных языческих общин, отказались от религии и привычных обрядов — от календаря, понятного ритма жизни, практически необходимых обычаев, имеющих, кроме всего прочего, серьезное психотерапевтическое значение, в особенности ритуалов, связанных с рождением ребенка, браком, погребением, и собрались в общину, у которой еще не было религии.
Мы привыкли подчеркивать исповеднический и мученический подвиг первых христиан, но меня не менее восхищает эта почти самоубийственная для того времени решительность, с которой они практически отказывались от религии. Не случайно язычники обвиняли первых христиан в безбожии.
У них не было не только храмов, но даже и потребности их строить, не было клерикальной структуры — трехчастная иерархия появилась столетием позже, — не было никакого Символа веры, священных предметов, календаря и, конечно, годовой структуры праздников, не было даже Священного Писания, ведь первые новозаветные тексты написал тот самый апостол язычников, и лишь к IV веку они собрались в канон. Самое сложное, как мне кажется, это было отсутствие обрядов погребения и поминания усопших, ведь первые христиане не собирались задерживаться в этом мире и ждали возвращения Учителя каждый день.
При этом апостол Павел еще и успевал бороться с «религиозным дурманом». Людей можно понять: не все выдерживали эту символическую неоформленность, ведь так устроен человек — он не может без религии, это его природная особенность, законное желание облекать свой духовный опыт в язык символа, означивать значительное. Бывший фарисей из колена Вениаминова жестко «прижигал» эти поползновения: Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы (Гал. 4:9–10).
В те благословенные первохристианские времена возможно было не только существование Церкви без религии, но и мирное сосуществование христианства в двух различных религиозных «редакциях» — иудейской и эллинской. Фактически то была одна вера в двух религиях, и этот факт требует вдумчивого богословского осмысления.
Покойный Гораций мудро заметил: «Гони природу вилами, она вернется все равно». Религия — природная особенность человека, воля к оформленности и организации внутреннего духовного опыта, опыта встречи с Богом. Нормальный человек обычно не отличает религию от веры, ведь здоровый не станет думать, как он дышит и не забыл ли в этот раз выделить желудочный сок. Из наших размышлений о «безрелигиозной» жизни первых христиан не следует делать вывод против религии хотя бы потому, что религия у них все-таки была: Крещение и, самое главное, Евхаристия были сердцевиной жизни христианской общины, впрочем, как и теперь.
Читать дальше