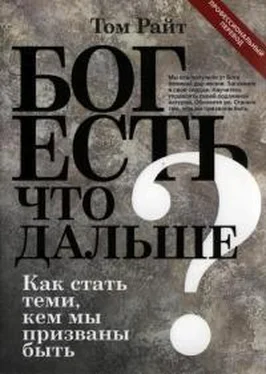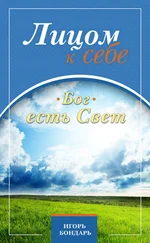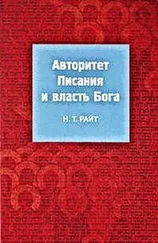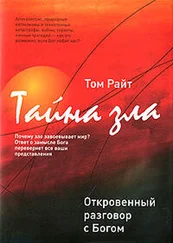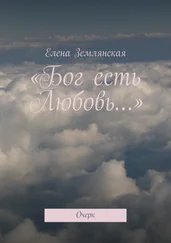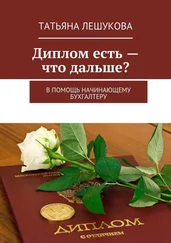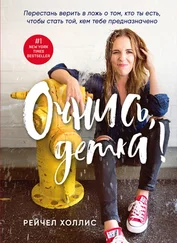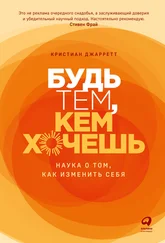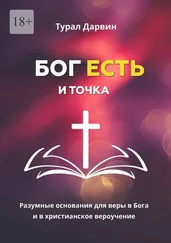А из всего этого следует, что призвание человека, о котором мы говорили в предыдущей главе, идея «царственного священства» народа Божьего, укоренена непосредственно в том, что совершил Иисус. Человек снова получил возможность стать священником и царем только потому, что совершенный Человек, Сын Человеческий в абсолютно особом смысле, сам стал царем и священником. Иисус пришел ввести в действие и воплотить в себе верховное и спасительное правление Бога над Божьим творением; он пришел также воплотить в себе верное послушание всего творения, всего человечества, а в частности — Израиля. Оба эти призвания — державное движение от Бога к Его творению и благодарное движение от послушного творения к Его Создателю — отражены в Евангелиях, и не только в словах, но и в поступках, причем в тех поступках, которые привели Иисуса на крест. Именно на кресте истинный Бог сокрушил ложных богов и установил свое Царство на земле, как на небе. Этот удивительный парадокс имеет для нас огромное значение. На кресте было во всей полноте и совершенстве явлено то верное и благодарное послушание, которого Бог ожидал от своего творения, от человека, носителя Его образа, и от избранного народа как надлежащий ответ на Божью любовь. Разумеется, смысл креста гораздо больше, но не меньше сказанного здесь.
Итак, Иисус был и царем, и священником. Это богословское положение окрашивает собой, порождая горькую иронию, всю историю его мессианского входа в Иерусалим, очищения Храма, ареста и «суда» у первосвященника, а затем — у представителя власти кесаря. После воскресения, когда он действительно стал царем и священником, Иисус призвал своих учеников, в удивительном акте благодати и силою его Духа, разделить с ним это двойное служение, осуществляя его и в своей жизни, и в жизни всего мира. И христианская добродетель строится исключительно на этом призвании, которое укоренено в том, что однажды в истории совершил Иисус, и взирает на грядущий новый мир, где мы станем «царями и священниками», «царственным священством». Цель человеческой жизни, telos Нового Завета как подлинная реальность, на которую лишь указывает представление Аристотеля об eudaimonia, уже представлена в Иисусе. Он есть «конец» всего, он есть цель, как о том говорится в гимне Бернарда из Клерво:
Иисусе, Ты единственная наша радость
И единственная награда,
В Тебе вся наша слава
И ныне, и вовеки. [8] Bernard of Clairvaux, "Jesusю tne Very Thought of Thee," tr. E. Caswall, in Hymns Ancient and Modern (New Standard), 14th ed. (Norwich, England: Hymns A&M Ltd., 1990), no. 120.
Таким образом, с христианской точки зрения добродетель нельзя рассматривать как личное путешествие из отправной точки к будущему пункту назначения. Добродетель связана с конечной целью, которая уже начала осуществляться, ее надо рассматривать в рамках эсхатологии инаугурации. Представители великой философской традиции, говоря о добродетели, постоянно утверждали: «Стань таким, каким ты должен быть». Христиане говорят: «Ты уже стал таким, каким должен быть, — во Христе». Мудрые христианские богословы не напрасно утверждали, что все основывается только на благодати. И если мы внесем такую поправку в представления о добродетели, мы увидим, что не отрицаем, но обогащаем уже знакомую картину: по своей внутренней динамике добродетель — это характер, который основывается на будущем и формируется посредством продуманных и трудных поступков и нравственных усилий. И это значит, что, как всегда утверждали мудрые богословы, благодать действием Святого Духа позволяет нам стать человечными в подлинном смысле этого слова. В чем–то это пересекается с мнением Аристотеля, а в чем–то радикально с ним расходится.
Стремление стать царственным священством, стать подлинным человеком всегда ведет к битве, к борьбе, которая часто заканчивается видимой неудачей. Так это было с Иисусом, и это же снова и снова повторяется в жизни его последователей. Но эти последователи обрели добродетель, характер, воплощающий в себе Нагорную проповедь, и тогда через их «обычную» человеческую жизнь в мир входили удивительные вещи. И суть этого явления нам надо искать, прежде всего, в сердце человека.
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» — говорит пророк Иеремия (17:9). Это пессимизм? Нет, скорее — реализм. Иисус бы с этим согласился. И хотя это может возмутить стихийных сторонников философии и этики романтизма, мы не сможем понять смысла нравственных требований Иисуса и их действия в жизни, если не разберемся с другим вопросом: что Иисус думал о глубинном недуге, о дилемме человека и какое удивительное лечение для него предлагал. Мы уже говорили, что Иисус возвестил приход Царства не на пустынном месте, но на территории, уже оккупированной противником; подобным образом он обращался к людям, чьи сердца не были tabula rasa, чистой восковой дощечкой, на которой можно написать что угодно, но, скорее, такими сердцами, о которых говорил Иеремия. Их привычки уже вполне сформировались, и, как отмечал Шекспир, чаще всего это были вредные привычки. И нередко — вот что значит выражение «лукавство сердца» — эти дурные привычки маскируются под добрые. Что бы ни значила «добродетель» в понимании Иисуса, она могла существовать лишь в подобном контексте. Несомненно, нам прежде всего следует обратиться к знаменитому высказыванию Иисуса о чистой и нечистой пище (Мк 7:14–23 и параллельные места):
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу