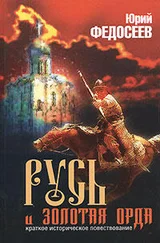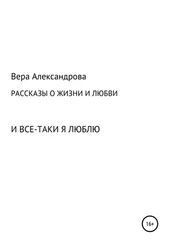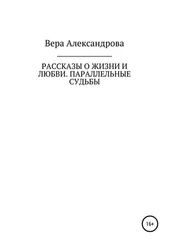Церковь Успения на Покровке была одной из красивейших в Москве. Она была построена в стиле московского барокко и производила, пожалуй, большее впечатление, чем известная церковь Покрова в Филях. Рассказывали, что Наполеон, войдя в Москву, был поражен ее красотой и хотел даже разобрать ее и перенести в Париж. Мои собственные воспоминания о ней, конечно, весьма смутные. Отчетливо помню только то, как иду по крутой лестнице.
От храма Христа Спасителя осталось в моей памяти впечатление громады, но меня к нему и близко не подпускали. Храм был занят обновленцами и мы туда не ходили. Старший брат зашел однажды посмотреть. Там проповедовал Введенский, но народу было мало — несколько человек по углам. Храм был темный, запущенный, опустевший.
Маросейка, ее окрестные переулки — Златоустьинский, Петроверигский, Старосадский и другие — это целая история. Храм святителя Николая в Кленниках, где служил великий старец, праведный Алексий Мечев… В Старосадском переулке — церковь святого Владимира в Старых Садех, напротив — Иоанновский монастырь. В годы моего детства в нем была школа НКВД — что–то наподобие современного спецназа. Весной открывали огромные сырые подвалы монастырских зданий — для просушки, и мы ребятишками по этим подвалам лазили, — у кого докуда смелости хватит. Очевидно, подвалы с внутренней территорией не сообщались, потому их и открывали, но самые отважные забирались по ним очень глубоко…
Таким я запомнил предвоенное время. Тогда в наших коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных, политических перемен, ломок, оставались непререкаемыми основные ценности: достоинство личности, которая в скудности созидает свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными <45>характерами, разными способностями, но одухотворенным одной идеей совместного родового, племенного, семейного, просто человеческого со–выживания, сохранить Русь, — так же как и в погромном тринадцатом веке, и в Смутное время, и в переломный, страшный век двадцатый.
В 1939 г. был заключен пакт о ненападении с Германией. И тогда же вышел на экраны фильм «Александр Невский», где главный герой бьет «псов–рыцарей» на льду Чудского озера. Можно два эти факта не сопоставлять, но можно и сопоставить. И, конечно, Александр Невский прощается с павшим бойцом уже не по–комсомольски, — заломив фуражку на затылок, — а по русскому обычаю — преклонив одно колено и сняв шлем. А в следующем фильме — «Александр Суворов» — главный герой уже, не стесняясь, говорит: «Помилуй, Бог». А в третьем — «Богдан Хмельницкий» — представлен хотя и шаржированный, но очень симпатичный поп Гаврила, у которого за поясом с одной стороны крест, а с другой — пистолет. Так — поэтапно возвращалось к нам то, что было запрещено. Сейчас русскую культуру не запрещают, но тщательно размывают.
Великую Отечественную войну Владыка вспоминал как событие судьбоносное…
Очень хорошо помню тот воскресный день, когда я вышел со службы около двенадцати часов. Накануне мы с Толей Алешиным договорились, что поедем к нам на дачу, я позвонил ему из автомата, чтобы уточнить, где и когда встречаемся, а в ответ услышал: «Куда? Когда? Война началась!» — «Да что ты! — удивился я. — Не сходи с ума. Какая война?» Тем не менее это действительно была война. С ее началом в какие–нибудь полтора–два часа лицо Москвы изменилось. В лицах прохожих появилось какое–то новое, трагичное выражение, — но это был трагизм не страха, а удивления. Я тогда, еще только выйдя из церкви, заметил это, но ничего не понял.
<46>Сразу появился замечательный гимн: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» — мы до сих пор его поем. Как у Гоголя, последние строки повести «Тарас Бульба»: «Нет такой силы, которая одолела бы русскую силу». Или у Толстого, при всем моем критическом отношении к нему, верно сказано: «Побеждает дух армии». Именно такой настрой был тогда. И первым, кто призвал к этому, был митрополит Сергий, будущий Патриарх. Голос Русской Православной Церкви прозвучал совершенно легально через московское центральное радио.
После первых объявлений о переходе нацистами границы и бомбардировке Киева Москва посуровела, улицы опустели, люди стали серьезнее. По улицам мчались на мотоциклах фельдкурьеры с полевыми сумками. В первую ночь была, как оказалось, ложная воздушная тревога, но москвичи рассказывали, что они видели сбитые нацистские самолеты. Потом с неба посыпались настоящие бомбы. Но и в эти первые, самые тяжелые месяцы войны Москва оставалась мужественной, спокойной, не было никакой паники.
Читать дальше