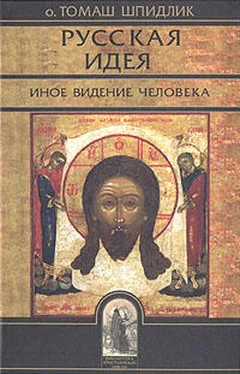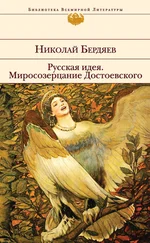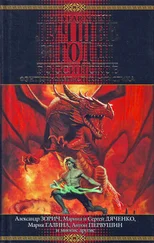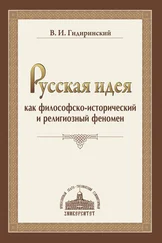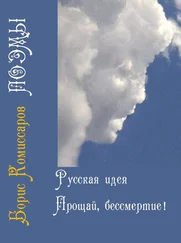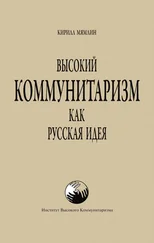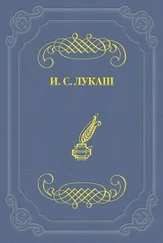С умозрительной точки зрения первым, создавшим философию поддержки прав личности и ее свободы, был Боэций.
Мысль Боэция пронизана ментальностью латинского Запада. В своем учении о Св. Троице он ставит на первое место единство божественной природы, в котором развивается жизнь Трех Лиц. Эта точка отсчета применяется и к антропологии. Человек в основе своей — «природа», но благодаря Божьему дару, — природа особая, одаренная разумом и свободой: именно это делает ее «личностью». Отсюда вытекает знаменитое определение: «личность есть индивидуальное существо разумной природы» [67] «Persona est naturae rationalis individua substantia» (личность есть индивидуальное существо разумной природы. — Прим. Пер.) (De duabus naturis et una persona Christi, 3//PL 64, 1345).
. Это определение было переформулировано Фомой Аквинским [68] «Omne individuum rationalis naturae dicitur persona» (Всякого индивидуума разумной природы мы называем личностью. — Прим. Пер.) (Summa theol. I, 29,3 ad 2).
. А чтобы яснее выделить этот исключительный дар разума и свободы, схоласты добавили к свойствам личности уникальность, невыразимость, пребывание «B–ce6e»(ens in se ) и «для–себя» (ens perse) [69] L. STEFAN1NI//EnFil. Vol. Ill (1957)..Col. 1298.
.
Такая концепция будет господствовать в философии вплоть до современной эпохи. Для Канта, как и для Фомы Аквинского, личность существует как «вещь–в–себе», и именно разум вводит в действие свободу, несмотря на связи, соединяющие ее с общей природой.
Причины столь долгой жизни этой концепции очевидны. Если обратиться к истории, то легко заметить, что в Европе одновременно существовали две тенденции. С одной стороны, общество стремилось объединиться на основании всеобщих законов; с другой стороны, в том же самом обществе индивидуумы должны были бороться за реализацию своей свободы, и благодаря этой борьбе были достигнуты результаты, оказавшие важное воздействие на законодательство в политической и социальной жизни. Хорошо осознавая противоречие между этими двумя тенденциями, Европа стремится достигнуть компромисса. Она прикладывает усилия к тому, чтобы установить границы неприкосновенной, привилегированной, индивидуальной свободы, одновременно стремясь никогда не забывать о «природных» требованиях и нуждах, сплетенных из социальной реальности и научных законов, управляющих миром. Это проблема, над которой размышлял и которую по–своему разрешил Великий Инквизитор в знаменитой легенде Достоевского [70] Братья Карамазовы. Ч. И. Кн. 5, гл. 5//Полное собр. соч. в 30–ти тт. Т. 14. Ленинград, 1976. С. 224 и сл.
.
Русские мыслители: несводимость личности к природе
Таким образом, Боэций и его последователи стремились освободить личность от закрепощенности общей «природой». Бог, наделив человека разумом и свободой, одарил его, если можно так выразиться, «правом освобождения» от того, что объединяет его с другими существами: человек выделяется из «природы», чтобы стать природой привилегированной.
Рассуждения русских мыслителей основывались на противоположной точке зрения. Для них абсолютное первенство принадлежит личности, которая раскрывает себя в определенной природе. Это первенство, как и у греческих Отцов, отсылает нас к тайне Св. Троицы. Отец, Сын и Святой Дух осуществляют Свое абсолютное единство в одной природе, « ousia » [71] La spiritualite. P. 47 ff.
; Они не «выходят» из нее, но Они ее образуют.
Точно так же и в христологии, утверждает Вл. Лосский, для того чтобы понять, Кто есть Христос, следует исходить из личности, а не из двух природ. Поскольку Христос — это первый человек, мы можем утверждать то же самое о каждой человеческой личности.
«Личность есть несводимость человека к его природе». Человек не существует вне своей природы, которую он «воипостазирует» и которую непрестанно превосходит, определенным образом « восхищает » ее [72] О. CLEMENT, Apergus…//Mille ans. P. 307.
.
Как в отношении Бога, так и в отношении человеческой личности следует различать природу и личность. Человеческая природа является общей для всех человеческих существ; однако в мире каждая личность уникальна, неопределима и непознаваема в своей уникальности.
Чем более личность ускользает от всякой попытки ее постижения, даже если это — попытка рационального определения, тем более она становится способной накладывать свой особый отпечаток на все, что ее окружает и чем она является. Вл. Лосский использует здесь пример из области искусства: «Когда мы говорим: «Это—Моцарт», или «это—Рембрандт», то каждый раз оказываемся в той “ сфере личного», которой нигде не найти эквивалента» [73] Вл. ЛОССКИЙ, Очерк мистического богословия Восточной Церкви// Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 129.
.
Читать дальше