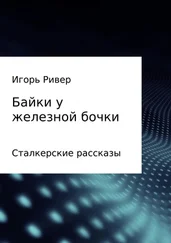В глубине, холодной и мрачной
Один отшельник частенько отворачивал большие замшелые камни, как люки, и кричал в землю:
– Эй, мужики, не хотите ли полетать?
И всякий раз в глубине, холодной и мрачной, слышались стоны, эхом разносившиеся по длинным коридорам земли…
Именно этот отшельник, как я слышал, знал Библию почти наизусть, и когда его в потакательстве отпетым грешникам обвиняли, возражал:
– И Христос в ад спускался!
Слышал я эту историю от старцев жигулёвских, из которых иные помнили ещё русско-японскую войну. Помнили народные сходы, вилы, превращённые в орудия нападения, поджоги помещичьих усадьб…
Отшельник NN всю свою жизнь искал просветления. И обретя его в старческие годы, стал ходить нагишом. Чувствовал себя при этом просто превосходно. Когда же его попросили, наконец – гм!.. гм!.. – одеться, NN удивился и спросил:
– Как, разве я не одет в тёплую и непромокаемую, райски прекрасную одежду, которую вы называете телом?
После, однако, проникся глубоким состраданием к тем, кто ещё не обрёл просветления, и облачился в «самую верхнюю», как он выражался, одежду – из грубой рогожи.
Ходил в старину по рукам череп, особенный. Глазом Дьявола звал его народ. Тот череп, поручику, застрелившемуся от несчастной любви, принадлежал. Стоило поглядеть через две дырки, проделанных пулей, на человека, как конец тому приходил. Тоской вселенской человек изводился, спешил на себя руки наложить!
Много людей тот Глаз Дьявола погубил. Судьба же его дальнейшая такова.
Пришёл как-то к людям, его хранившим, один отшельник, отдать потребовал. Те ни в какую. А череп в каменном подвале хранился, в железном сейфе. Отшельник сел во дворе и стал молиться. На третью ночь вылетел из его головы огненный шар, проник в тот сейф и Глаз Дьявола испепелил…
Сказывают, на месте, куда пепел высыпали, ни одна травинка с тех пор не выросла.
Стоя в красной рубахе, опоясанной кушаком, на крутом волжском обрыве, отшельник Матвей говорил молодняку, пришедшему сладить свой подвиг в прокопчённых пещерах жигулёвских:
– Забота отшельника выходит за рамки земли, но землю не покидает. Она простирает свои руки и земле, и небу.
«По раздольному морю поэзии плавает, говорят, лодка. По бокам её солнце и месяц нарисованы, с носа утка резная вдаль глядит. В той лодке Ангел восседает, толкая воду веслом. И всё, что Ангелу ни встретится в пути, на песню кладётся.
А в песне той трудится завод, печную копоть в бархат превращая. Не от мира та песня, но для мира. В самую сердцевину его влиться спешит, и задать миру направленье.
Чу: звучит та песня над пучиной морской, и даже на окраинах земли русской, что хвостом Тугарина-змея оплетена, метлою Бабы-Яги перекрещена, светит солнышко», – писал своему гимназическому другу, самарцу NN, один отшельник.
Отшельнику П., который плохо отзывался о своих братьях, приснилось, что язык у него раздвоился, как у змеи. В состоянии крайнего беспокойства явился он к Старшему отшельнику…
– Покажи мне язык, – попросил тот.
Отшельник показал.
– У тебя действительно два языка, – сообщил Старший отшельник. – Правда, растёт ещё и третий, который и полагается иметь отшельнику. Язык, с которого стекает лишь мёд!
У Б., старейшего отшельника, оставалось к концу его жизни совсем мало зубов. Когда же выпал последний зуб, Б. заметил:
– С хищником покончено навсегда.
– Какой же ты, брат, хищник? – спросили его.
– Разумеется, травоядный!
Отшельник Иван умел таким образом поглядеть на луч солнца, проникавший в его пещеру через дымоход, что луч начинал звенеть, как струна у мандолины. А, может быть, это только казалось человеку, посетившему отшельника ясным весенним днём?
Цвела черёмуха на склоне соседней горы, источая и запах, и соловьиную песню. Любитель словесности назвал бы такое пение «ароматным», связав два события в одно. И под звон солнечного луча, всё-таки звеневшего в обход всех житейских правил, отшельник Иван говорил:
– Порою мне, волжанину, кажется, что душа моя состоит из Волги и Жигулей!
«Проповедь без благодати – самое страшное, что может случиться с отшельником!
Читать дальше






![Игорь Шабельников - Байки сталкера Бабая [СИ]](/books/415577/igor-shabelnikov-bajki-stalkera-babaya-si-thumb.webp)