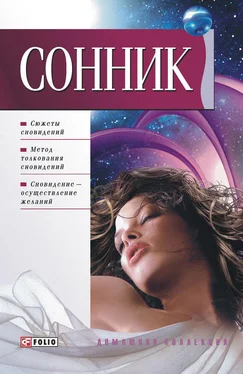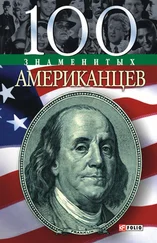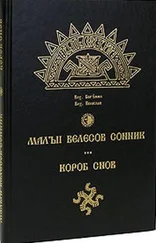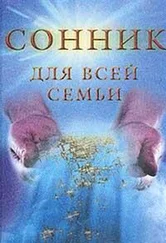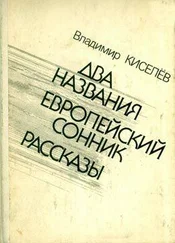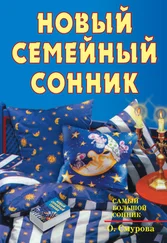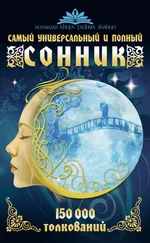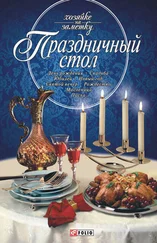[Требуемая здесь «свобода» мыслей с устранением критики, по-видимому, чрезвычайно затруднительна для многих. «Нежелательные» мысли оказывают обычно сильное сопротивление, мешающее им пробиться наружу. Если поверить, однако, нашему великому мыслителю – поэту Шиллеру, то такой же процесс необходим и для поэтического творчества. В одном месте своей переписки с Кернером Шиллер отвечает на жалобу своего друга в его недостаточной плодовитости: «Причина твоих жалоб объясняется, как мне кажется, тем принуждением, которое твой разум оказывает на твое воображение. Я выскажу здесь одну мысль и иллюстрирую ее сравнением. Мне представляется вредным, если разум чересчур резко критикует появляющиеся мысли, как бы сторожа их и самый порыв. Идея в своем изолированном виде, быть может, чрезвычайно ничтожна и опасна, но вместе с другими, последующими она может быть чрезвычайно важной; в связи с этими другими идеями, в отдельности такими же ничтожными, она может представить собою весьма интересный и существенный ход мыслей. Обо всем этом не может судить рассудок, если он не сохраняет идею до тех пор, пока не рассматривает ее в связи с остальными. В творческом разуме, напротив, разум снимает свою стражу, идеи льются в беспорядке, и лишь затем он окидывает их взглядом – осматривает целое скопление их. Вы, господа критики, стыдитесь или боитесь мгновенного преходящего безумия, которое наблюдается у всякого творческого разума и продолжительность которого отличает мыслящего художника от мечтателя. Отсюда-то и проистекают ваши жалобы на неплодовитость: вы чересчур рано устраняете мысли и чересчур строго их сортируете». (Письмо от 1 декабря 1788 года).]
Большинство моих пациентов осиливают эти трудности уже после первых указаний; для меня лично это тоже не представляет особой трудности, особенно когда я записываю свои мысли. Сумма психической энергии, на которую, таким образом, понижается критическая деятельность и которая в то же время повышает интенсивность самонаблюдения, значительно колеблется, смотря по темпераменту, на который обращается внимание пациента.
Первый шаг применения этого метода учит, что в качестве объекта внимания следует брать не сновидение во всем его целом, а лишь отдельные элементы его содержания. Если я спрошу неопытного пациента: «Что вызвало у вас такое сновидение?» – то он обычно не может найти ничего в своем умственном кругозоре; мне приходится разложить сновидение на отдельные части, и тогда он к каждой такой части приводит целый ряд мыслей, которые можно назвать «задними мыслями» этих элементов сновидения. В этом первом важном условии мой метод толкования сновидений отличается уже от популярного исторического и легендарного метода толкования при помощи символизации и приближается ко второму методу «расшифрования». Он, как и последний, представляет собою толкование еп detail, а не en masse: как последний, он берет с самого начала сновидение как нечто сложное, как конгломерат психических явлений.
Во время моих психоанализов у невротиков мне удалось истолковать, наверное, несколько тысяч сновидений, но этим материалом я не воспользуюсь здесь для введения в технику и в сущность толкования сновидений. Не говоря уже о том, что мне могли бы возразить, что это сновидения невропатов, не дающие возможности провести аналогию их со сновидениями здоровых людей, – к устранению их меня побуждает еще и другая причина. Тема, которой касаются эти сновидения, само собою разумеется, почти всегда история болезни, на которой базируется данный невроз. Благодаря этому для каждого сновидения необходимы были бы чересчур распространенные предварительные сообщения и ознакомление с сущностью и этиологическими условиями психоневроза: все эти вещи сами по себе в высшей степени сложны, они бы, наверное, отклонили внимание от самой проблемы сновидений. Моя же цель заключается, наоборот, в том, чтобы толкованием сновидений подготовить разрешение более трудной и сложной проблемы психологии неврозов. Если же я отказываюсь от сновидений невротиков, от своего главного материала, то я имею уже право не быть чересчур разборчивым в другом материале. Мне остаются лишь те сновидения, которые сообщены мне случайно здоровыми людьми или же которые я нашел в качестве примера в литературе проблемы сновидения. К сожалению, все эти сновидения лишены анализа, без которого я не могу найти смысла сновидения. Мой метод не так ведь удобен, как метод популярного расшифрования, который при помощи постоянного ключа раскрывает содержание сновидения; я, наоборот, готов к тому, что одно и то же сновидение у различных лиц при различных обстоятельствах может открывать совершенно различные мысли. Благодаря всему этому я стараюсь использовать мои собственные сновидения как наиболее обильный и удобный материал, проистекающий, во-первых, от довольно нормальной личности, а во-вторых, касающийся самых различных пунктов повседневной жизни. Читатели могут усомниться в надежности такого «самоанализа» – произвол при этом, конечно, не исключен. Однако, на мой взгляд, самонаблюдение значительно удобнее и целесообразнее, чем наблюдение над другими; во всяком случае, можно попытаться установить, какую роль играет самоанализ в толковании сновидений. Другую, значительно большую, трудность мне пришлось преодолеть внутри самого себя. Человек испытывает понятную боязнь раскрывать интимные подробности своей душевной жизни: он всегда рискует встретить непонимание окружающих. Но боязнь эту необходимо подавлять. «Tout psychologiste, – пишет Дельбеф, – est oblige de faire Faveu meme de ses faiblesses s’il croit par le jeter du jour sur quelque probleme obscure…» [5] . И у читателя, как мне кажется, начальный интерес к интимным подробностям должен скоро уступить исключительному углублению в освещаемую этим психологическую проблему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу