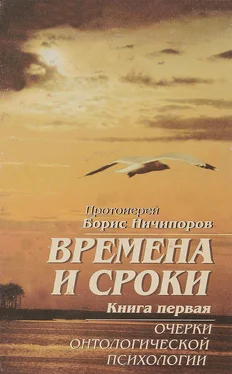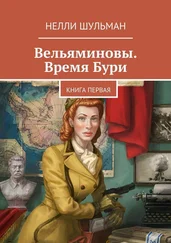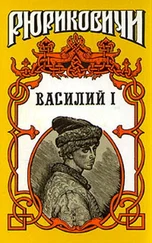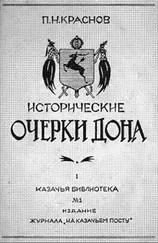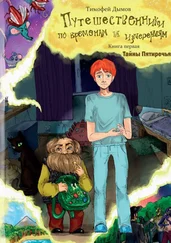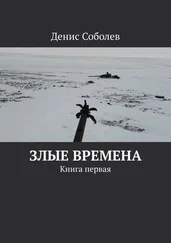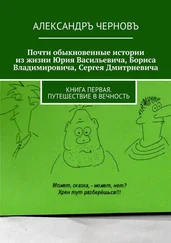И далее следует краткое и простое окончание: И пошел Авраам, как сказал ему Господь (Быт. 12, 1–4).
Такое решение не может быть легким, ведь Авраам навсегда покидал родной край, покидал, чтобы стать Ав-ра-а-мом, то есть отцом народов. Он пошел не просто в новую землю, он пошел туда по зову Бога…
При бегстве Лота с семьей из Содома от посланника мы слышим следующие слова:
Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад… спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть (Быт. 19, 17).
Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом (Быт. 19, 26). Это была не любознательность, а бабье любопытство и упрямство глупости.
В Евангелие от Луки повествуется, как Господь сказал одному человеку: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие.
Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими.
Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9, 59–62).
Траектория пути каждого из нас, к сожалению, не всегда бывает поступательной. Бывают падения, суета, разбрасывание.
Вспомним в этом же контексте легендарного Орфея. Ему хватило ловкости и умений спуститься в Аид за возлюбленной Эвридикой. Но он не вынес муки идти, не оглядываясь. Он обернулся и не выполнил уговора. Он был прекрасный певец, но не боец. Духовную ошибку Орфей совершил еще раньше. Мужество начинается там, где личность научилась принимать и нести удары судьбы. А в смерти близких есть глубинная скорбь необратимости. Поэтому в Аид не надо было бы спускаться. Но впрочем, тогда мы не имели бы этой трагически прекрасной истории любви.
Вспомним еще одно: отстал Иванушка от сестрицы Аленушки, не послушался сестренки, обернулся, попил водички и стал козленочком. Оглянуться – это значит прервать движение, усомниться в избранном пути, начать топтаться на месте.
К оптинскому старцу Севастьяну пришли посланники Деникина, чтобы он благословил их на борьбу с большевиками. Но старец сказал им: «Что Бог определил – вам не менять». Так он сказал не потому, что одобрял большевиков, а потому, что прозревал судьбу России. Он знал, что Буденный в конце концов победит Врангеля.
Перед дорогой надо присесть, остановиться, помолиться, успокоиться и… оглядеться. Но однажды почувствовав свой путь, надо идти. На этом пути будут падения и крестоношения. Но будет и радость и веселая свобода пилигрима!
Глава II
Энергия – страсти – поступок
«Я» и двойник
Мы начнем рассуждать на эту важнейшую тему нашей работы с разговора о двойнике. Иннокентий Анненский писал:
И в мутном круженьи годин
Все чаще вопрос меня мучит:
Когда наконец нас разлучат,
Каким же я буду один? [18] И. Анненский. «Двойник». Избранное. М. 1987. Стр. 24.
Этот вопрос И. Анненского для нас является принципиальным. Бывает ли человек один в мистическом смысле? Мы запомним этот вопрос, чтобы вернуться к нему в конце нашего разговора.
С.С. Хоружий определяет человеческую энергию как «всякий род активности человека, равно импульс, начинательное движение к таковому…» [19] С.С. Хоружий. «Диптих безмолвия». М. 1991. Стр. 69.
Я бы добавил еще сюда же саму энергийную потенцию: реализованную или нет – не важно.
Средневековые споры архиепископа Григория Паламы и Варлаама Калабрийца дали миру следующую антиномийную формулу: «Бог непознаваем по существу, но познаваем через свои энергии». Морализм Варлаама, если бы он был принят Церковью, лишил бы христиан реального живого опыта богообщения, которое, как известно, нашло множество приверженцев в Иисусовой молитве, в практике умного деления, в исихазме. А позже в русской традиции – в учении о благодати преподобного Серафима Саровского.
Традиционно энергии делили на тварные – энергии органического и неорганического мира, а также демонические и нетварные энергии. Нетварные энергии суть благодать Святого Духа.
Демонические энергии, по словам Святителя Григория Нисского, не имеют сущностной основы, ибо сатана не есть сущность, не есть имя, не есть добро. Сатана в онтологическом смысле вообще не есть. Но в то же время, святитель пишет: «парадоксальным образом зло в самом небытии имеет свое бытие…» [20] Цит. по: Г.В. Флоренский. «Восточные отцы IV века». – Париж. 1931. Стр. 164.
Искренне молящийся Богу человек становится причастным энергийности Божества. Он синергирует с благодатью, приобщается Свету, как говорили святые.
Читать дальше