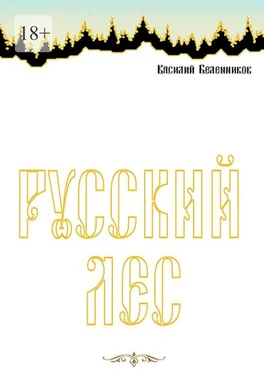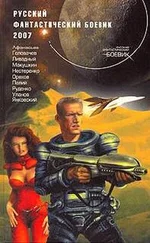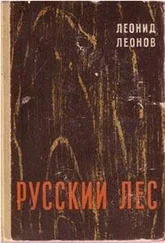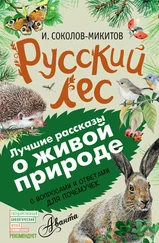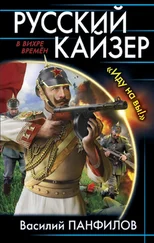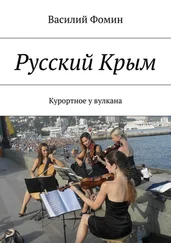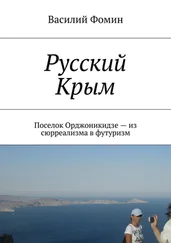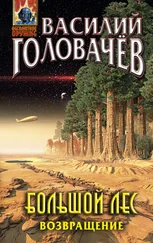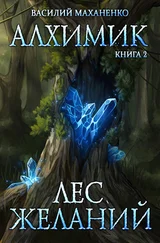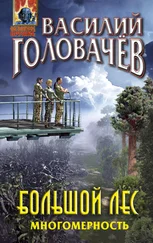Нюта же Маляра понимала, но недолюбливала принципиально. Хоть никогда и не наказывала. Оставляла ему возможность исправиться естественным образом, под влиянием обстоятельств. Резонно размышляя, перемелется, мол, – мука будет… Наказывать, надо сказать, не за что и было. Он всё делал по её правилам. Но нахватался этих правил, в основном, без её помощи. Ещё до неё. Где-то нахватался. У маляра, наверное. По этой причине часто, без нужды неуместно, демонстрировал свою осведомлённость и самостоятельность. Поэтому всё чаще в палитре их отношений возникал лёгкий мотив соперничества. Маляра всё больше тянуло на особицу. На особицу на Нютином поле. Вот в чём дело. Тут возникал некоторый парадокс положений. Поле было, определённо, Нютино, но на Маляровой, по праву, земле. Вот такая загогулина получается!..
Нюта держала ухо востро. Потихоньку, полегоньку обрубала маляровы поползновения на самостоятельность и независимость от неё. Ей это легко было делать. Маляр, по причине самомнения и молодой самонадеянности, действовал в одиночку. У Нюты за плечами был опыт, религия, система, целенаправленность, землячество, а потому мощная корневая поддержка. Маляр, кажется, сам рубил сук, на котором уселся. И сидел тут одиноким сычом. На чужом суку. Высматривал себе свою собственную добычу «на своей земле», вместо того чтобы, как и задумано было, работать на хозяйскую задачу. На основную идею хозяев этого сука, этого дерева. Что, конечно, по мнению Федермутер, было самонадеянным, ничем не оправданным «паразитством». Эдаким юношеским самолюбивым капризом, заскоком и попыткой использовать плоды и возможности этого дерева персонально для себя, ничем никому не одалживаясь. Пользоваться плодами, по её мнению, для него не предназначенными.
Хвост, таким образом получалось, пытался вертеть собакой. Вот Нюта его и обрубала потихоньку, сокращая эффект его влияния на беспокойство и разбалансировку общего организма.
Ну, а у Маляра была своя правда. Ему, в свою очередь, резонно казалось, что раз дерево «впёрлось» на его территорию (землю), то он, согласившись на такой захват, имеет полное право пользоваться его плодами. Использовать его возможности с пользой для себя.
Тут между ними и возникали, естественным образом, недоразумения. Которые красноречиво, образно можно описать русской народной пословицей: бодался телёнок с дубом… До Маляра никак не доходило, что чужеродный захватчик, этот сорняк на отчем поле, несмотря на все свои душеспасительные проповеди, родной земли цветам цвести не даст. Это он, чуженин этот, в проповедях для других призывал к кротости и смирению, «возлюби ближнего своего, молись за врагов своих». Сам же, под личиною евангельского смирения, был расчётливо холоден, бездушен, коварен и вероломен. В общем, на словах одно, на деле – всё наоборот!
Был и ещё соученик. Третий. Ну, этот вообще был фрукт тот ещё. На этом уж точно клейма негде было поставить. Из пройдох пройдоха! Звали его кто как. По-всякому. И так, и эдак. Кто Батоном, под стать Пончику. Кто Бутеном. Кто просто Бубном. Сам он о себе говорил довольно часто в третьем лице, как сказитель о каком-нибудь герое народной былины. Называл сам себя, как бы со стороны созерцая, одобрительно ласково – «Бутенко». Самодовольно часто провозглашая:
– Бутенко плавал, Бутенко знает, Бутенко нехрена учить!
Правда выговаривал он это своим окаянным языком, когда не было рядом Федермутер, или соученицы Колобка-Пончика-Нарыжи. Последняя могла рассказать Нюте. Ну, это – в первую очередь. А потом, по мере Колобка покатушек , узнал бы и весь остальной монастырь. И, конечно, раззвонила б она об этом не по злобе, а просто потому, что самовлюблённое высказывание Батона естественным образом ложилось в её тему «О мальчиках». А это её законная тема. И греха тут никакого и не было бы.
(Игру же всё казалось, что «бутенко» – это затычка. Которой непременно надо заткнуть, остановить любое естественное движение, любую свежую струю. Тем более, – не званную, не жданную. Как ни крути, получалось, что «бутенко» значит – без дыр, как бы. Бездырь одним словом! Тудыт твою!.. Без примеси … то есть.)
Бубном огольца этого называли ещё и за то, что бубен этот был казачьего, из Запорожья, роду-племени. Поэтому иногда дополняли – «казачий»… Бубен этот, казачий который, по своей неуёмной энергии был неразборчиво рисков на все руки. Да к тому же шустёр и пронырлив невероятно. Обладая неуёмной непоседливостью, отличался невероятной ненасытностью. Всё старался устроить самым наивыгоднейшим образом в пользу своим интересам. Совершенно не считаясь с остальными. Игру он удивительным образом напоминал галкиного Билю – деревенского соседского парнишку. С той только разницей, что своей, хоть и младшей, но грозной сестры Галки-левши (о которой речь пойдёт ниже) у самозабубённого «Бутенко» в детстве, отрочестве рядом не оказалось. « А не помешало б…» – мысленно прикидывал Игрей. Бубен и разговаривал как бубен. Бу-бу-бу-бу-бу. Половина – туда, половина – не туда! Неважно… Главное говорить ему самому и не дать говорить другому. А в коротких промежутках, когда удавалось говорить другим, он их совсем и не слушал, а думал в это время о том, что самому сказать дальше. Главная забота: забивать других всякой пафосной канонической ерундой, гнать «шелуху», «полову», «мякину». Проявлять бурную деятельность. Во всех делах быть первым. В каждой бочке (бутенко) затычкой, буквально. Этот бубен мог забить любого. Малого, взрослого – не важно! А раз мог забить, то и забивал. Чего ж?..
Читать дальше