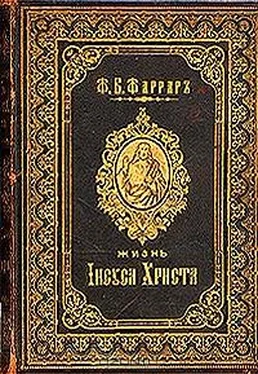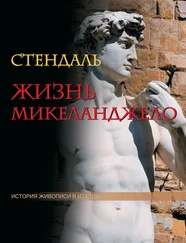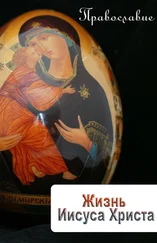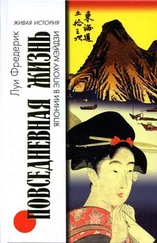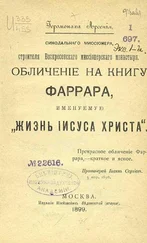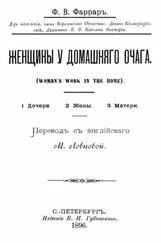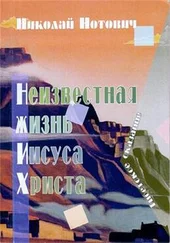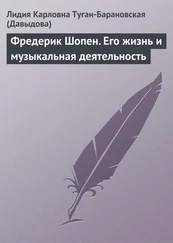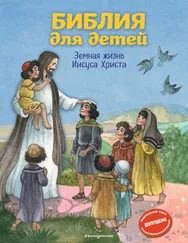Легко можно думать, что задумчивость Его придавала особую торжественность положению и чертам лица Его, когда Он сидел, молча, среди грустного небольшого круга Его верных последователей. Не без некоторой боязни Его приближеннейшие и любимые апостолы, — Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, — подошли к Нему и, видя, что взоры Его обращены на храм, спросили наедине: скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины мира [636] Матф. 24, 25. Марк. 13, 3-37. Лук. 21. 7-38.
? Одно из деланий говорит, что Иисус на вопрос: «когда» ответствовал [637] Clem. Rom. Ер. 2, 12; Clem. Alex. Strom. 3, 9, 63.
: «когда два будут равны одному; когда внешнее будет внутренним; когда мужеский пол и женский перестанут быть полом мужеским и женским»; но по Евангелию вопрос этот остался до временя без ответа. Таков был постоянный метод Иисуса отвечать на некоторые вопросы, почему-нибудь неудобные, но делаемые единственно по неведению. Он не оговаривал прямо, но, обойдя вопрос, вместо прямого ответа, преподавал какое-нибудь великое нравственное поучение, которое, соприкасаясь с вопросом, и само по себе имело значение [638] Срав. Лук. 13, 23–24.
. Согласно с этим, вопрос апостолов вызвал от Него эсхатологическую (выходящую из пределов человеческого мышления) проповедь о последних мировых событиях, — четырьмя нравственными ключами которой служили слова: берегись! наблюдай! терпи! и молись!
В этой проповеди многие находили сильные затруднения, для устранения которых написано множество трактатов. Аллегория, в которую она облечена, и намеренно не вполне ясный смысл ее, избранный Иисусом для выражения Божественной воли относительно подробностей будущего, — которые послужили бы только или к удовлетворению пустого любопытства, или к парализующей скорби, — представляют видимые затруднения для уразумения слов Спасителя. Но если мы сопоставим рассказы всех трех евангелистов вместе и посмотрим, насколько они взаимно объясняют друг друга; если мы вспомним, что во всех трех рассказах речь Спасителя по необходимости передана благовестниками своими словами, в сжатом виде, с удержанием только ее сущности, следовательно допускает разногласие с устным рассказом; если мы приведем себе на память, что сказанное на арамайском языке переведено на греческий; если мы остановим взгляд на том принципе, что целью пророчества во все времена было больше всего нравственное предостережение, нежели хронологическое указание, — так как для пророческого голоса, как для всевидящего ока Божия, существует одно настоящее, один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день [639] Псал. 79. Петр. 3, 8.
; если «последний день скрыть, как говорит блаженный Августин, для того чтобы внимательно наблюдались прочие»; если наконец мы с глубоким почтением и без всякой суетной богословской фразеологии и риторических фигур принимаем слова самого Спасителя, что о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец, который времена и лета содержит в своей власти ; если, я говорю, мы читаем эти главы, непоколебимо сохраняя в сердце такие убеждения: то, мне кажется, для всякого усердного и серьезного читателя большая часть затруднений устраняется сама собою.
Из сравнения рассказа евангелиста Луки с прочими двумя синоптистами вытекает, что Иисус направлял мысли своих учеников к двум горизонтам: одному — ближайшему, другому — отдаленному, с означением предела или конца каждого. Первый из них простирается единственно только на обстоятельства одного века, современной и ближайшей к Нему эпохи; второй объемлет отдаленные события последующих веков, причем Он указал на прямое их друг с другом соотношение. Дозволяя ученикам остановить непродолжительный взгляд на картине будущего, Он, как на ближайшее обстоятельство, указал на скорый суд и конец Иерусалима, за которыми последует учреждение на землевидимой церкви, причем этот суд и конец св. города будут прообразованием суда над миром, его кончины и учреждения царства Христова во второе пришествие. «Род сей», говорил Он в смысле существовавшего тогда поколения, не истребится до суда над Иерусалимом, а в смысле вообще рода человеческого не вымрет до кончины мира. Если неопределенная пророческая речь, личные убеждения евангелистов Матфея и Марка, при сжатом изложении устного рассказа, дают некоторое понятие, что эти два события служат непосредственным друг другу продолжением или, по крайней мере, между собою сопредельны, то, с другой стороны, у евангелиста Луки мы видим предупреждение Спасителя, что хотя многие из предсказанных Им знамений совершатся тотчас в заключение великой эпохи мировой истории, однако всеобщая смерть и пакибытие последуют не скоро, а потому смуты и народные движения не должны возбуждать страха и лихорадочного ожидания близости последнего суда. Таким образом, если мы единожды навсегда усвоим себе мысль, что Иисус говорил отчасти и прежде всего о падении политического существования евреев и их рассеяния по лицу земли, отчасти и уже во вторых о кончине мира, и, при живом разговоре, мысли и слова о том и другом перемешивались друг с другом, — что совершенно естественно в Богочеловеке, существование которого постоянно вращалось в сфере вечной, а не временной; то, само собою разумеется, евангелистам почти невозможно было следить, какие изречения Он относил к ближайшему и какие — к отдаленному событию. Поэтому, чтобы избежать неправильного увлечения поверхностными и ошибочными впечатлениями, мы должны постоянно держать в памяти, что прежде кончины мира Иисус предсказал совершение двух великих событий [640] Лук. 21, 24.
: первое из них опустошение Иерусалима, пока не окончатся времена язычников, т. е. не исчезнет их сила под влиянием христианства, второе распространение Евангелия царства Божия между всеми народами в мире. Мы не можем отрицать все достоверности даже того предположения, что хотя вдохновенные благовестники Евангелия передавали с мудростью и верностью все, что существенно относилось к жизни и спасению человечества, но желание передать все высказанное Иисусом в сокращенном виде могло до некоторой степени внести в рассказ личные их воззрения и вполне естественное предположение, что последний суд ближе, нежели на самом деле, ко времени падения Иерусалима.
Читать дальше