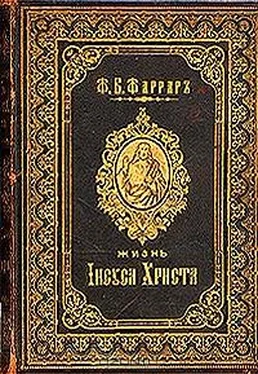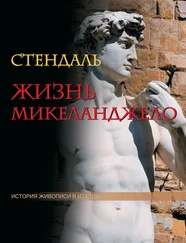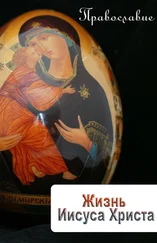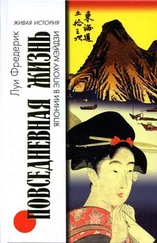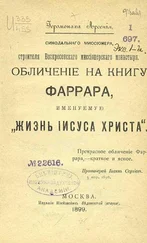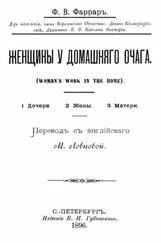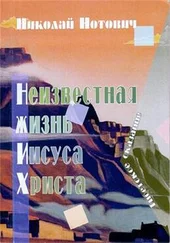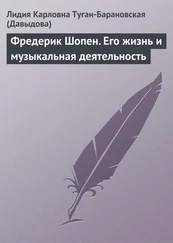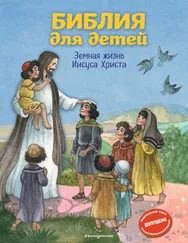А разве мало пролито крови, когда судьба Авеля постигла этот народ? Разве многие из современников Христовых не дожили до нее для того, чтобы быть свидетелями и прочувствовать невыразимые ужасы, которые рассказывает Иосиф [629] Ios. B. I. 5, 6;6, 10.
, чтобы видеть своих собратьев, распятых на посмеяние «одного таким, иного другим образом», так что «не оставалось места для крестов, не хватало крестов для распятия»? Разве не дожили они до этих дней, для того чтобы испытать «глубокое молчание», нечто вроде смертной ночи, охватывавшей весь город в промежутках невыразимых неистовств; чтобы видеть 600000 мертвых тел, выносимых из ворот, — друзей, дерущихся безумно за траву и крапиву, за отказ в капле воды, — окровавленных зилотов, разинувших рот от жажды, спотыкающихся и падающих, как бешеные собаки? Разве не пришлось им пережить эти дни, чтобы слышать ужасный рассказ о несчастной матери, которая, вследствие мучений голода, съела собственного ребенка, — чтобы быть проданным в рабство в таком множестве, что наконец никто не хотел покупать, — чтобы видеть улицы, затопленные кровью, и пламя горящих домов, тушимое кровью их защитников, — чтобы видеть своих сынов, продаваемых сотнями или преданных в амфитеатрах оружию гладиаторов и бешенству львов, пока, наконец, (так как народ был избит, святой дом предан огню, город в пламени), уже нечего было более делать неприятелю? Предполагают, что в этой страшной осаде истреблено до 1.100.000 человек, кроме 97.000 взятых в плен, из которых большая часть погибла на аренах или в рудниках. Страшно было слышать мнение некоторых личностей, переживших это событие, его очевидцев и притом не христиан, — что город этот заслужил свой разгром, произведя поколение, которое было причиною его бедствий, и что «никакой другой город не вынес таких бедствий, но и ни один век от начала мира не производил более злостного поколения, как жившее в это время».
ГЛАВА LIII
Прощание с храмом
Для всякого ясно, что великое пророчество, переданное в последней главе, заключало в себе окончательный и безнадежный разрыв между Иисусом и иудеями. Примирение после подобных слов было невозможно. Поздно; дверь заперлась. Когда Иисус оставил храм, ученики Его должны были знать, что Он покидает его навсегда.
Но, по-видимому, при выходе оттуда, — а может быть, когда Он сидел со скорбным сердцем и поникнутым взором во дворе женском для успокоения души, возмущенной необычайным умственным напряжением и нравственным негодованием, вследствие беспрестанных нападений, — встретился новый, менее грустный случай, который дал Ему возможность оставить пределы дома Отца Своего не со словами гнева, но с благостью в сердце. В женском дворе находилось тридцать хранилищ. Они устроены были в виде расширяющихся книзу труб, украшены различными надписями и служили складом добровольных приношений, которые употреблялись для украшения храма. Туда приходил каждый со своим даром, но между другими легко было отличить вкладчиков богатых, потому что они сыпали серебро и золото так, чтобы видели люди. Подняв свои взоры, Иисус в одно мгновение понял все значение этого зрелища. В Талмуде написано: «кто дает милостыню втайне, тот выше самого Моисея» и «лучше не давать, чем давать напоказ и открыто». Но в эту минуту бедная вдова робко опустила свою контрибуцию [630] Марк. 12, 41–43. Лук. 21, 1–4.
. С пренебрежением, может быть, скривились губы богачей при виде дара, меньше которого невозможно было уже внести по Закону. Она положила два прутага, самомалейшую из ходячих монет; потому что незаконно было даже для беднейших людей не внести ничего. Лепта, или прутаг, была восьмая часть аса и почти что равнялась нашей полушке. Стыд бедности заставил несчастную согнуться при пожертвовании такой безделицы, когда вокруг ее богатые люди щедро отсыпали золото. Но Иисус был доволен верою и жертвою вкладчицы. Это было для Него «чашей холодной воды», поданной с любовью, которая в царстве Его не может остаться без вознаграждения. Он высказал при этом вековечный великий урок, что сущность милостыни есть самоотвержение, и самоотвержение вдовы при ее бедности гораздо важнее, нежели в богатейших фарисеях, которые внесли золото». Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, — все пропитание свое. «Одна монета от скудости, — говорит св. Амвросий, — лучше, чем сокровище от избытка: обращается внимание не на то, сколько дано, но сколько осталось». Если есть усердие, — пишет св. Павел, — то оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, что не имеет [631] 2 Коринф. 8, 12.
.
Читать дальше