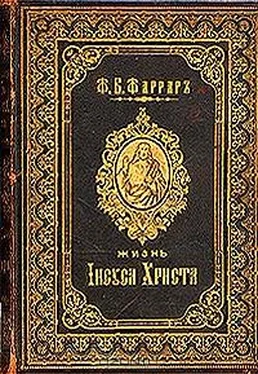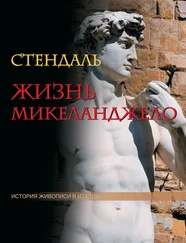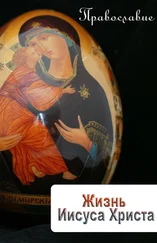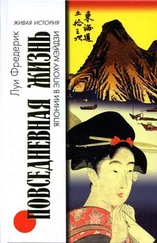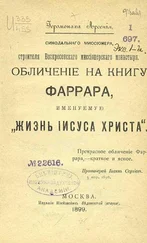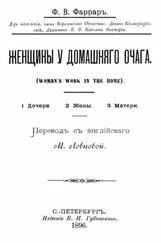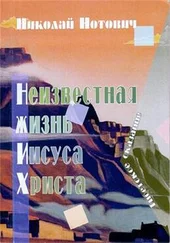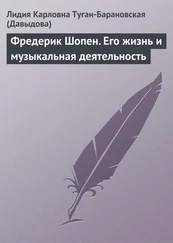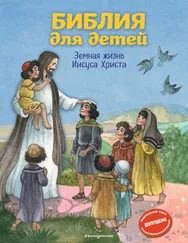Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленныя в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись .
Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет s день суда, нежели вам.
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься: ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленныя в тебе; то он оставался бы до сего дня.
Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.
Это горе, как у евангелиста Матфея, так и у евангелиста Луки, совершенно одинаково по характеру, но первый пишет, что оно высказано между прочим за обедом у Симона-фарисея, а второй помещает в речи Иисуса, при посылке на проповедь семидесяти апостолов. Может быть, эти торжественно прекрасные и полные предостережения слова были произнесены не однажды; но, принимая во внимание, что упоминание в них Хоразнна, равно как воспоминание о приеме в Тире и Сидоне для того времени, к которому они отнесены евангелистами, представляют некоторое отступление от хронологии, нам кажется не неуместным вспомнить их, при прощании Иисуса с Его городом, после недавнего посещения Тира и Сидона. Не будем говорить удостоверительно, что эти трогательные слова высказаны именно при этом случае, но душа Его была в это время исполнена скорби о неверии и жестокосердии, о помрачении умов и развращении тех, которые не дали Ему возможности стать ногою на родную землю. Какой-то из судебных ораторов сказал, что «нет обмана отвратительнее и гнуснее, как тот, который скрывает злобу и ложь под личиной откровенности и становится под защиту религии».
Отвращение к таким ужасным порокам было еще сильнее в огорченном сердце Иисусовом, когда, во время путешествия на лодке вдоль восхитительных берегов озера к северным его пределам, Он сказал ученикам своим: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской [396] Матф. 16, 6-12. Марк. 8, 17–21.
или «Иродовой», как говорит св. Марко, потому что иродиане принадлежали по большой части к секте саддукеев. Он не прибавил к этому ни слова, и Его замечание, вследствие странной простоты учеников, было совершенно перетолковано. Они притчи Его понимали буквально, а простую обыкновенную речь считали притчею. Когда Он назвал себя хлебом небесным [397] Иоан. 6, 53–60.
, они думали: какие странные слова! Кто может это слушать? Когда Он сказал : у Меня есть пища, которой вы не знаете [398] Иоан. 6, 32–33.
, они только сделали замечание: разве кто принес Ему есть? Когда Он объявил им: Лазарь, брат наш, уснул [399] Иоан. 11, 11–12.
, они отвечали: Господи! если уснул, то выздоровеет . Так и теперь, несмотря на то, что закваска была самым обыкновенным типом греха и в особенности указывала на зависть и подкопы, они, после долгих споров, могли только прийти к такому заключению, что в этих словах заключается предостережение от покупки квасного хлеба у фарисеев и саддукеев или не прямой упрек за то, что в скорби и смятении от неожиданности плавания они взяли с собой один только каравай хлеба! Иисус был огорчен их крайним непониманием и поразительною привычкою придерживаться буквального смысла. Разве могли они предполагать, что тот, по слову которого хлеб и рыба чудесным образом возрастали в количестве до того, что они сами, напитавши пять тысяч, собрали двенадцать, а напитавши четыре тысячи, семь полных больших корзин, находится теперь в опасности терпеть сам или заставить их выносить страдания голода? Тягостное недовольство слышится в этих быстрых во росах, которые определяли их заблуждение. Что разсуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите и не понимаете? Наконец напомнив им о чудесах, Иисус прибавил: как же разумеете? Ученики не решались ни отвечать, ни просить у Него какого-либо объяснения; в Нем было нечто внушающее благоговение, в лице Его нечто восторженное, так что сильнейшая их любовь к Нему сдерживалась глубочайшим почтением. Он сам вызвался объяснить значение своих слов и рассказал, что просил их хранить себя не от хлебной закваски, а от учения фарисеев и саддукеев.
В Вифсаиде Юлиевой [400] Марк. 8, 22–26.
, вероятно на следующее утро, приведен был к Нему слепец для исцеления, которое и было совершено так же, как над глухонемым в Декаполисе. Из евангелий мы видим, что богатство и сила чудес соразмерялись с верою тех, над кем и при ком они совершались. В тех местностях, где вера была мала, очень натурально, что и чудеса повторялись нечасто и не в большом количестве. Так и тут не заметно уже было той всегдашней готовности, того сильного желания, какие замечались при совершении первых чудес. Самый образ совершения до некоторой степени был уже не тот, который виделся в прочих, переданных евангелистами чудесах, потому что в нем замечалась какая-то медлительность. Иисус взял слепца за руку, вывел его за город, смочил слюною его глаза и тогда, наложив на них свои руки, спросил: видит ли он? Слепец посмотрел на личности, находившиеся от него в довольно большом расстоянии и, не вполне излеченный, отвечал: вижу проходящих людей, как деревья, и до тех пор не прозрел окончательно, пока Иисус не возложил снова рук на глаза его. Тогда Он приказал ему идти домой в Вифсаиду, со строго повторенным запрещением не входить в город и не рассказывать об этом никому из горожан. Мы не можем объяснить причин такого усвоенного Христом выражения запрещения не говорить. Мне думается, что эта невозможность понять то, что управляло Его действиями, происходит иногда от краткости рассказов, в которых писатели пропускали многое, что им было вполне известно. Это нередко бывает в тех случаях, когда, рассуждая о своем предмете, они уверятся сами в ясности своих мыслей для тех, которые будут читать их. Точно также, но смутно можем мы догадываться о нерасположении Иисуса к языческим иродовым городам с занятой у греков архитектурой, с их беспечными обычаями, с их именами, напоминающими, как в этом случае, Вифсаида Юлиева, нечто самое презренное из людского рода. Догадка эта основывается единственно только на заметном старании Иисуса обходить их во время путешествия.
Читать дальше