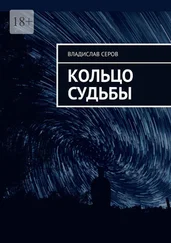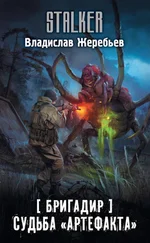1 ...7 8 9 11 12 13 ...101 * * *
На четвертый день большой группе вновь прибывших паломников был дан проводник монах, и они отправились по горе; желавшие иметь мула или осла, платили 5–6 рублей. Путешествие по горе продолжалось 2–3 недели, но я в нем не принял участия, так как прежде хотел ознакомиться с жизнью в Пантелеимоновом монастыре – самой большой и старейшей русской обители на Афоне.
Утреня начиналась здесь, как и на всем Афоне, в 12 часов ночи. Звон начинался за 15 минут, а звонки будильщиков в коридорах всех братских и гостиных корпусов раздавались за полчаса до начала утрени. Схимники вставали за час и, исправив положенное келейное правило, шли к утрене. И начиналась утреня, когда вся братия и паломники сойдутся в церковь; это очень строго соблюдалось.
Будничная утреня продолжалась четыре часа, полиелейная – более пяти часов, обедня – два-три часа, вечерня – полтора-два часа, вечернее правило – около часа. Кроме того, в Пантелеимоновском монастыре, хотя не в главной церкви, в продолжение седмицы бывали всенощные бдения, которые начинались в 9 часов вечера и продолжались до 4–5 часов утра. В воскресные и праздничные дни и в дни великих святых всегда совершались бдения. Эти бдения были более торжественны, продолжались не менее 10–12 и иногда даже и 15 часов. Например, в память святого великомученика и целителя Пантелеимона бдение продолжалось с 5 вечера до 8 часов утра.
День у афонской братии распределялся так: простояв 6–7 часов у утрени и ранней литургии, братия расходилась по своим делам и послушаниям. Поздняя литургия не для всех была обязательна. По окончании ее, около 10 часов утра, бывала общая братская трапеза, на которую шли вместе и паломники. Все кушанья холодные приправлялись афонским оливковым маслом.
После обеда до вечерни оставалось 3–4 часа, и в этот промежуток времени некоторые немного отдыхали, а потом опять несли послушание. Вечерня начиналась около 3-х часов; после нее ужин и опять в церковь к вечернему правилу, которое кончалось в начале 8-го часа вечера. А тут недалеко и 12-й час, когда звонок будильщика опять звал в церковь на молитву.
Отсюда видно, сколько свободного внебогослужебного времени имели в своем распоряжении иноки. Кроме того, еще келейное правило, да и чтению Священного Писания нужно было уделить время. Вместе со всем этим в монастыре широко была развита и хозяйственная часть: кузнечные, слесарные и столярные мастерские, типография, иконописные, производство капитальных построек и всевозможные тяжелые работы.
В потреблении пищи тогда в Пантелеимоновском монастыре держались таких правил. По понедельникам, средам и пятницам бывал только обед и два раза давался кипяток для чаю, в остальные дни – обед и ужин и один раз кипяток.
При входе в трапезную обращало внимание паломников, что кушанья уже расставлены были на столах, для каждого в отдельной глиняной посуде; поэтому горячие кушанья приходилось употреблять уже остывшими. Если в положенные дни подавалось вино, то это было не что иное, как хороший кислый квас, не имевший ничего общего ни с вином, ни с какими другими спиртными напитками.
Суровость подвижнической жизни глубоко отражалась и на внешнем виде иноков. Они как будто не жили на земле, а всецело погружены были внутрь себя, и мысль их как бы занята была будущей жизнью. Кроме гостинников, они не вступали в разговоры с паломниками, чтобы не развлечь своего внимания и сосредоточения мысли.
Желавшим вступить в число братства иноки представляли те внутренние тяготы и скорби, которые должен пережить каждый новоначальный монах. В первый год у сознательного подвижника происходила, естественно, сильная борьба. Это был год или два больших испытаний, по выражению иноков. Потом уже бывало легче.
В 1968 году Пантелеимонов монастырь постигло большое несчастье. Пожар уничтожил ряд помещений и ценнейшую библиотеку. Храмы, к счастью, не пострадали.
1
Отдохнув и осмотревшись, на шестой день вчетвером зашагали мы в Карею – административный центр Афона. Компания была приятная: талантливый художник, молодой священник и православный англичанин, родившийся в Москве. Восхождение к Руссику происходило медленно, шаг за шагом, причем эти шаги делали не только люди, а и наши осторожные и вместе с тем поразительно умные и выносливые мулашки. На первом муле, покрытом ковром, восседал я, на другом был навьючен мой несложный багаж, третий же предназначался для муллария (моего проводника-монаха) отца Илиодора, милейшего карпаторосса, в большинстве случаев продвигавшегося пешком и тщательно выбиравшего путь для следовавших за ним животных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
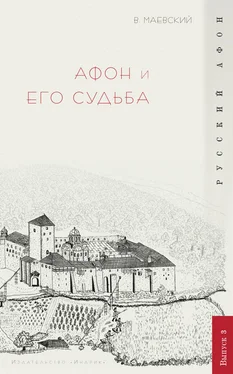


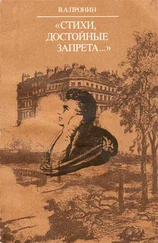
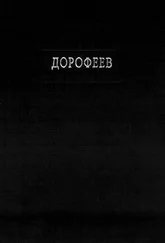
![Владислав Жеребьёв - Бригадир. Судьба «Артефакта» [litres]](/books/401513/vladislav-zherebev-brigadir-sudba-artefakta-l-thumb.webp)