Я затряс головой:
– Ведь мы уже разговаривали об этом, Антея. Мужчина не может заставить его встать только потому, что ему угрожают.
– Тогда мы немного поиграем. Не сгодится ли тебе в качестве раздражителя Меланиппа? Я не гордая.
– Так ты таки Меланиппа! – вскричал я стражнице, которая все так же невозмутимо стояла у дверей. – Это чудо!
– Трахни или умри, Беллерофон, – подытожила Антея. – Сделаем как ты захочешь, можешь даже быть сверху. Но перепихнуться мы должны.
Я с полной откровенностью повторил, что не могу сделать это с ней ни при каких обстоятельствах. В этом не было никакого личного неуважения или женоненавистнического снобизма: фаллос наделен своей собственной волей, столь же плохо согласующейся с моею, как с волей Полиида его магия. Погляди, как он сейчас обвис, и не удивительно, если учесть, сколько на нем всего висит…
Антея застегнула бронированную пройму своей юбки и вышла из камеры.
– Меланиппа, я хочу, чтобы мне его сварили на обед – отрезанным, естественно. Пришлю тебе кого-нибудь на помощь. – Она в последний раз бросила на меня презрительный взгляд. – И небольшое блюдечко с закуской.
Когда она удалилась, я безнадежно воззвал к невозмутимой юной стражнице, которая дожидалась снаружи подкрепления с лицом, на котором невозможно было что-либо прочесть. Я не мог, заявил я, заявлять о своей невинности по обвинению, что оказался не на высоте в ответ на естественные надобности царицы (хотя, конечно же, имелись тут и смягчающие обстоятельства); или что принес в жертву своим геройским амбициям семью (но – как и выше); или что низводил всю свою жизнь женщин до подсобных ролей (но многие ли люди обоего пола наделены необыкновенным призванием? и как можно сказать, что Филоноя была принуждаема?). Конечно же, я был виновен в том, что слепо подверг насилию единственную когда-либо встреченную мной женщину, как раз таким призванием наделенную, – ее саму, гордую и просто немыслимую, ни на один день не постаревшую с тех пор, как, охваченный отвращением к самому себе из-за своего недавнего скотства и еще менее застаревшего просветления, я перелетел с нею в Коринф, где и сдал на попечение Ипполите. Значит, правда, что кое-кто из амазонок владеет искусством не только метаморфоз, но и омоложения! Во всех своих прегрешениях против женщин – не последним из которых была моя явная неспособность признать, как поступали многие так называемые свиньи-женоненавистники, в одной из них самое главное в жизни сокровище– я раскаивался, не чая отпущения грехов. Если мне не суждено было умереть, боги волей-неволей меня сохранят; иначе же я неправильно себя истолковал и не имею тогда желания жить, ибо ценил я не свою жизнь, но свое героическое призвание. Но прежде чем она и те поддельные амазонки, с которыми она общалась здесь в антеевской травестии подлинной Амазонии (ибо я способен отличить подлинник от его противоположности – и среди тех, кто зовет себя амазонками, и среди тех ценностей, которым они служат), превратят меня в холощеную тушу, я просил позволения сказать последнее прости (и задать несколько вопросов) моей терпеливой женушке, которая любила меня больше, чем саму себя.
– Хорошо, – сказала Меланиппа и, проворно отперев дверь, зашагала прочь, но не в ту сторону, куда направилась царица. Чуть придя в себя, я, громко шепча благодарности, последовал за ней; она на мгновение притормозила, чтобы, оглянувшись, окинуть меня по-прежнему безразличным взглядом, потом зашагала дальше. Я никак не мог свыкнуться с нескончаемой вереницей чудес: невероятное совпадение самой этой встречи, очевидное прощение, дарованное вдруг мне, ее абсолютная неподвластность возрасту… До чего славными были ее бедра и талия, точеными ножки (она не признавала узорчатых, в ромбовидных крапинах, колготок, которые носило большинство амазонок), изящными – под очаровательной кольчужной блузочкой-безрукавкой – плечики! Мы кружили по коридорам и задворкам; ночь выдалась спокойная, темная, благоуханная – но я в своей наготе и под влиянием распиравших меня чувств весь покрылся гусиной кожей, а моя мошонка из-за нависшего прощания со мной сжалась в комочек.
Завернув за угол, мы наткнулись прямо на дворцовую свалку мусора, при взгляде на которую, несмотря на вопиющую необходимость сохранять молчание, я издал горестный вопль: поверх очисток и черепков, освещенный ущербной луной, валялся кверху брюхом бедный дохлый Пегас, распростав крылья, словно переливчатая чайка, задрав в небо, в которое ему уже никогда было меня не поднять, все четыре ноги. Я полез прямо через всю мерзотину, чтобы обнять своего конька за шею, проклиная его отравителя, причитая и славословя: старый планерушка, надежный сотоварищ во всех моих героических свершениях, мой залетный сводный братишка! Ах, он еще не умер, он только умирал: встрепенулось белое маховое перо, у меня под ухом слабо откликнулось лошадиное сердце.
Читать дальше
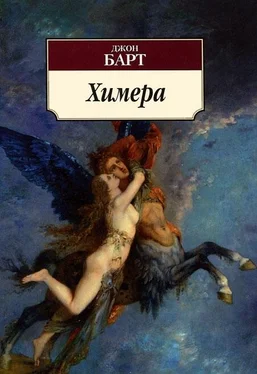







![Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/431685/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi-thumb.webp)


