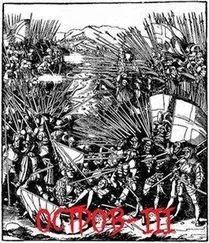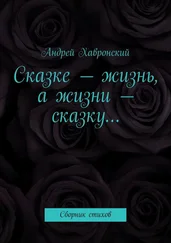Порядок.
Вот голова!
Выходит, обязательства выполнили.
Начали лучших людей выдвигать. Бочков:
— Предлагаю товарища Шашкина. Как показавшего исключительный пример.
Ну и так далее.
А тут, вот, конец года. А Ерошкин в больнице. По причине поясницы. Менял и на «Кубанскую» — не помогает. Ну, мы к Ерошкину. Курева, двойные апельсины, а Бочков — обязательства в деревянной рамке.
А сестра в палате Ерошкину уколы. И прислушивается. Как Ерошкин, извиняюсь, без подштанников наши обязательства шутя выполняет.
И вдруг, посмотрела ему в… куда уколы, и:
— Больной Ерошкин. У вас обострение. Побежала к главному врачу.
Мы свою рамку вынесли, смотрим — главврач. С рамкой.
О чем они с Брошкиным — не знаем. Только главврач выходит и сестре:
— Больному Ерошкину суп-пюре увеличить и можно в палату домино.
Рассказываю я про нашего Ерошкина дома за индийским чаем, а жена:
— И у нас Ерошкин.
— Поди ты? И фамилия редкая. Как, к примеру, Иоганн Вольфганг Гете. (Это я тянусь: жена в НИИ работает.)
— Я в переносном, — говорит. — Как обязательства принимать — все к нему. «Выйти на параметр 100 килогерц…», «Подойти к рубежу в окрестности 10 ватт…», «Получить до 100 децибелл…»
…А Ерошкин-то женился! «Производственный сектор» за него пошла.
А наша бригада-ух заняла первое место.
С конца.
Не спасла нас гнилая Ерошкинская философия. И, выходит, «сектор» промахнулась.
Давайте не будем!
А если будем — то делом.
Окулист сопел и писал. Вот он отложит перо, откинется в кресле, внимательно посмотрит в мое, скажем прямо, незаурядное лицо и воскликнет: «Мать честная! Ну, прям, Луи… Забыл номер. Периода возвышения маркизы де-Помпадур, конечно…»
— Фамилия.
Так вот, с точкой вместо вопросительного знака, без отрыва пера от медицинской документации произнес доктор.
— Ивáнов, доктор. Не Иванóв, а Ивáнов.
Доктор поискал на столе.

— Вашей карточки нет. Заведем новую.
Он рылся в ящике стола. Взглянет ли он на меня?
Здесь будет кстати сказать, что я — индивидуальность. У меня СВОЯ гипертония и СВОИ катар верхних дыхательных путей.
— Год рождения.
Врач смотрел в серую, с кусочками древесины, карточку.
— 1861-й.
Перо начертало дату освобождения крестьян от крепостной зависимости в России.
— «Знаю, на место цепей крепостных люди придумают много иных», — убежденно произнес я.
— ФИО.
— Ламанчский. Дон Кихот.
«…хотович Ламанчский», — заключило графу перо.
— Кем работаете?
— Канцлер.
Буква за буквой фиолетовою слово — «Канцлер».
— На что жалуетесь.
(Доктор по-прежнему не признавал вопросительной интонации.)
— У меня на глазу ячмень. Он банальный, вульгарный и мне его не надо. Величиной с рубль.
— Ячмень… — бормотнул врач, развинчивая ручку. — На правом глазу?
— Ни на правом, ни на левом, доктор.
Окулист приподнял свои очки и близоруко прочел этикетку на чернилах «Радуга».
— Я циклоп, доктор.
— Так, — зарядив ручку, сказал он. — Садитесь на табурет и смотрите в окуляр прибора.
При переходе от стола к трубе в белой комнате невозможно не увидеть второго человека. Окулист сделал невозможное.
— Ну, чего вы мотаетесь, — сказал он с другого конца трубы.
— Мне трудно, доктор.
Мне действительно было трудно: я сделал на табуретке «стойку» на руках и вверх ногами должен был смотреть в трубу. От прилива крови потемнело в глазах.
Доктор сделал еще раз невозможное и занес ручку над картой.
— Когда впервые вы заметили эту штуку — потемнение в поле зрения.
— Первый раз? — Я в прыжке приземлился перед столом. — Когда в нашем магазине «Консервы» увидел, что хрен дороже ананасов.
Доктор меня не видел. Он писал.
— Будете делать, что я вам здесь выписал. Следующий!
Я подошел к двери, хлопнул ею и вернулся на прежнее место.
— Фамилия.
— Иванов. Не Иванов, а Иванов.
Доктор начал поиск карты.
Дождливой осенью, застигнутый холерным карантином в сельце Болдино, Шура удивил всех своей плодовитостью.
Арина Родионовна. «Мои встречи с Пушкиным».
Пусть биографы скажут, что я писал в простой амбарной книге. Развернутая, с чистыми листами цвета шиферной крыши, она толкала взяться за гусиное перо из пластика.
Есть осень. Есть дождь. Но чего-то не хватает.
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)