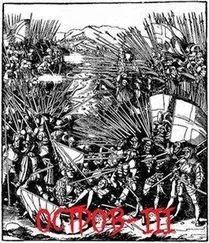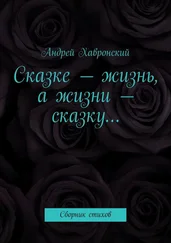Не доверяя мне, он ответственно пронес на стол две каши.
— Ну, а теперь рассказывайте, пентюх, что там с вами стряслось.
Мне не хотелось рассказывать Рушницкому о встрече. Выручил «пентюх». Я молчал, как бы давая понять Николаю Ивановичу, что он перешел границы дозволенного.
— Я не смогу сегодня провести вечер с вами, — перешел я к откровенному угнетению.
Рушницкий виновато ел кашу.
— Мне нужно встретить московскую знакомую, которая присоединится к нашей группе.
Этой правдой я снял напряжение с Рушницкого.
— Черт с вами, — впал он сейчас же в свой обычный тон, тон неоспоримого лидера в нашем дуэте.
Встречающих на перроне было мало и в пунктире светильников он просматривался на всю длину.
Если Веры не будет и сегодня, ей придется догонять нас на маршруте.
Что ее задерживает?
И кто «третий»?
Ладно, все должно выясниться — я посмотрел на часы — через восемнадцать минут.
Рушницкий…
Беззащитность — щит.
Я вдруг понял, что эксплуатировал беззащитность Рушницкого в эпизоде с кашей, рыбой и «пентюхом». И осудил себя.
Цивилизацию относят к эпохе. Но и современники находятся на разных ступенях цивилизации.
Мы с Рушницким были одинаково цивилизованы. Мир и картина бытия представлялись нами в общем-то согласно. Однако, в частностях мы сильно расходились и вас сближали споры.
Упаси нас, господи, от буквального единомыслия!
(У меня есть дядя. Дядя Митя, Он начинает выдавать абсолюты, как только открывает рот. Мои суждения он принимает, как свои.
— Дядя Митя, — сказал я дяде Мите, — разговору у нас не получится.
— Верно. Ты знаешь, Гриша, это — верно, — и здесь согласился дядя, и мы перестали ездить друг к другу.)
Мы, я и Рушницкий, были одинаково образованны, начитанны и умны. (Он умнее, чем кажется; ему мешает несколько повышенный процент спеси.)
Но многое, к невыгоде Рушницкого, нас различало.
Возраст.
Приспособляемость. Я мог общаться со всеми, Рушницкий — только с людьми своего круга.
И еще одно обстоятельство ставило его в зависимое положение: у старого Рушницкого практически только со мной был «пропуск на двоих» в молодое женское общество.
Таким образом, лидером «де факто» был я. Кажется, это понимал и лидер «де юре», Рушницкий.
…Меня ослепил ползущий свет прожектора на рельсах. Поезд подплывал к платформе. В дверях вагонов — парад проводниц. За ними — ищущие глаза пассажиров.
Может быть, среди них Вера?
Застучали откидные ступеньки, коснулись асфальта первые чемоданы.
Веры пока нет.
— Вера, ты смотри — здесь Григорий! — услышал я сзади себя голос… Семена Васильевича. — Гриша, ну молодец, что встретил. Носильщиков нет? Нормально. Вот наши чемоданы. Ну, дружище, как же тебе доверять оба — бляхи-то у тебя нет! А моя старуха разболелась. Есть там, на этой турбазе, что-нибудь вроде медика? Возьми вот тот, потяжелее. А я — этот и Веру Андреевну…
«Дождем беременные тучи, с громами, молнией! Со всей земли сберитесь! Низвергнитесь на головы сидящих за столом у сейфов, путевки нам бесстрастно выдающих по три и более в одно учрежденье, на срок один, в одно и то же место!!». (Король Лир о профсоюзах.)
Это невежливо, почти грубо, дико, наконец, но я не хочу видеть Голтяевых, Веру и Семена.
Что будет дальше — не знаю. Сейчас — не могу.
Семен стучался ко мне утром и, посмотрев на мое лицо, понятливый Рушницкий очень естественно соврал: «Григория Александровича нет дома».
Заглотав за завтраком хек и макароны, я удачно выскочил из столовой, избежав встречи с супругами.
Я выследил их в парке сам и наблюдал за ними с соседней аллеи.
Семен Васильевич держится орлом, старается выглядеть крупным руководителем на отдыхе. Но весь он, как бы это сказать, «со скрипом». Сохранность его сиреневого костюма, розовой сорочки, пронзительно-желтых сандалет и того, как он по-быстрому смахивает пыль со скамейки для себя и для Веры, говорили о подспудном скопидомстве.
…С хроническим гастритом от тушенки тщеславные собственники садятся, наконец, за руль малолитражки. Худосочные и счастливые гладят потной рукой холодный глянец рояля. Как латы, носят новый костюм…
А Вера-«точно на похоронах. Зеленой скукой веет от них.
Как им нужен сейчас кто-нибудь третий!
Но третьего нет. И каждый боится быть третьим…
Я вышел в парк только вечером.
— Что с вами, маэстро? — как можно более небрежно окликнул меня Рушницкий.
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)