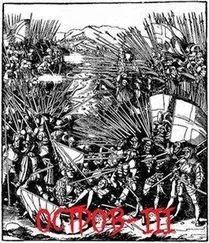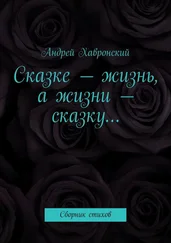— Ны начнем.
— ?
Гид показывает на меня:
— Пуст атайдет.
— ?
Мне:
— Паапрашю.
Непонятно. Таращатся экскурсанты.
— Почему?.. Почему он должен отойти? — кудахчет кто-то.
— Мэстный.
Курам весело:
— Да наш это, наш!
Гид молчит. Попал впросак.
— Ну, чего вы все ржете? — спрашиваю Машу, подсаживая в подошедший автобус. В дороге Маша передает мне из сумочки зеркало.
— Ты только посмотри на себя! Зачем ты это?
Что-о?!.. Мне подбрили усы по-грузински!
Мне тоже весело!
И где-то гордо.
Наш экскурсовод, кстати, оказался отличным гидом. Почему ему не нравятся пижоны? Ведь именно за такого он принял меня.
Он стоит сейчас под солнцем в святом месте Грузии, ее пантеоне. С хрипловатой патетикой ведает он нам о славных своих земляках: о Давиде Гурамишвили, об Акакии Церетели, о Нине Чавчавадзе и русском поэте Грибоедове.
Мы снова в автобусе.
С неудовольствием я кивнул Лукерье Ивановне, нашей туристке, оказавшейся рядом со мной в кресле. Румяная, толстая и глупая, она снискала себе репутацию сплетницы и теперь, Как пить дать, и этот шаг нашего сближения с Машей дойдет до Веры и Рушницкого.
А какова Маша-то!
Вот что значит легкая косметика и рожденная в муках прическа!
Я смотрю на сцену и через паутинку кофточки ощущаю тепло ее руки. Микронная ткань — вот, если хотите, прогресс нашей цивилизации! За такое чудо фараонша отдала бы десять тысяч и еще одного раба.
Но будем смотреть оперу.
Меломаны, кажется, говорят — «слушать оперу»?
Не усеку, почему это лучше.
Итак, которые же здесь гугеноты?
— Гугеноты — это Варфоломеевская ночь?
— Исключительно правильно, — отвечает Маша.
Оставим на ее совести этот иронический укол и будем смотреть «Гугенотов». Да, смотреть, потому что я не музыкален и не хочу, понимаете — не хочу! — быть музыкальным. Ибо музыка — мой враг номер один. А у меня всегда получается так: в какое положение не поставлю переключатель говорителя — везде музыка.
Под музыку к «Гамлету» я принимаю капли датского короля.
Я проклинаю дочь в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.
Я плачу над телеграммой под «Летку-Енку».
Ансамбль скрипачей сопровождает акт вскрытия коробки со стиральным порошком и другие еще менее тор», жественные акты.
Музыка во дворе, в бане, на службе, на кухне, в спальне, в… Даже в опере.
Вот сейчас этот старик на просцениуме в камзоле и парике, который ухает басом, да еще на грузинском языке — ведь он сообщает нам нулевую информацию! Встал бы и по-русски, по-человечески рассказал о себе, коснулся о гугенотах…
Впрочем, есть оперы вполне.
Вот, скажем, открывается занавес в «Князе Игоре». Сразу нескучно. Пока играет музыка, решаешь: который князь?
Наверное тот, кто вышел с крыльца и поднял меч?
Нет, прошу прощения, по-видимому, следующий за ним, более представительный воин с пикой. Он похож на нашего инженера Мочальского, тот что работает на полставке.
Нет, и «Мочальский» уходит, не открыв рта, а князь Игорь обязан сегодня петь. Хотя бы в порядке труддисциплины.
Наконец-то Игорь выходит из-за кулис справа во главе своих бояр. Но почему все они в ризах и с хоругвями?! Мне мешает разобраться в обстановке пузатенький воин слева, неожиданно запевший баритоном. Складывается гипотеза — Игорь он. К третьему действию сомнений нет, и я лишь из осторожности испрашиваю подтверждений у Зинаиды.
Я несколько отвлекся.
Сейчас на сцене, кажется, возникает конфликтная ситуация. Противоборствуют стороны: парень, в дальнейшем именуемый Манрико, и плохо причесанная и очень подвижная старуха, которую почему-то принесли на носилках.
Когда конфликт — главное точность.
— Как зовут старуху? — спросил я шепотом Лукерью Ивановну.
— Какуя?
— Боже мой, на сцене всего одна старуха!
— Котора ему оспаривает? — уточняла Лукерья.
Тем временем тяжущиеся стороны все более интенсифицировали конфликт.
Отчаявшись найти пути к соглашению, Манрико занес над своей грудью смертоносный нож. Зал замер. Умолк оркестр. Мне показалось — выронив палочку, дирижер закрыл лицо руками. И в это вот самое время раздался верещащий, назойливый треск моих наручных часов-будильника. Конструкция не предусматривала возможности останова; технические условия на изделие определяли длительность сигнала в 30 секунд. 30 секунд — это то время, за которое боролась техчасть завода и за которое можно вспомнить свою жизнь, полюбить ее и свои ошибки и отказаться от самоубийства.
Читать дальше
![Ростислав Соломко Жизнь? Нормальная [сборник] обложка книги](/books/414624/rostislav-solomko-zhizn-normalnaya-sbornik-cover.webp)