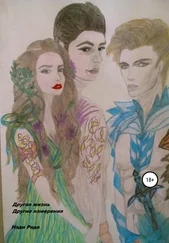В начале он какими-то своими таинственными кошачьими методами ухитрялся добывать пищу. Раз даже он приволок какую-то рыбку, которую матери с большим трудом удалось от него отобрать. Василий Андреич сердился, шипел, свистел, изгибался, ерошился, в то время, как мать поджаривала благостное блюдо. Но после того, как Волхов был национализирован и стал достоянием всего народа, исчезла и рыба.
Василий Андреич похудел и полинял. Чем больше углублялась октябрьская революция, тем более мрачным он становился. Дошло до того, что он, вообще, потерял всякую охоту к жизни, перестал выходить во двор, а только лежал и хныкал.
— Как Обломов, — говорил отец.
— Как голодный Обломов, — поправляла его мать.
Наконец мать не выдержала.
— От Василия Андреича необходимо избавиться, — сказала она как-то вечером. — У нас ничего для себя нет, как же мы его можем кормить?
— Как прикажешь от него избавиться? — спросил отец.
— Очень просто. Утопить его, — сказала мать.
— Утопить? Где?
— В реке, — насмешливо ответила мать. — Если выйдешь из нашего дома и повернешь направо, а затем опять повернешь направо и пойдешь прямо, ты натолкнешься на реку, которая называется Волхов.
— Да, да, — сказал отец, — Волхов! А кто Василия Андреича топить будет?
— Вы, — ответила мать. — Ты с Мишей. Я вам приготовила мешок.
Василий Андреич как раз в тот момент счел нужным на что-то пожаловаться. Мы все вздрогнули.
Шли мы к Волхову медленно. Мешок, в котором смирно лежал Василий Андреич, нес отец. Мы оба чувствовали себя преступниками.
У берега мы остановились, и отец сказал:
— Иди, набери камней, да потяжелее.
Я поплелся за камнями. Вдруг до меня донесся голос отца:
— Вот, проклятый, улизнул!
Я подбежал к отцу, и он мне хитро мигнул. Назад мы пошли весело и бодро. Мать нас встретила у дверей.
— Утопили? — спросила она.
— Утопили! — в один голос ответили мы.
Мать застонала, схватилась за сердце, а потом громким, на всю улицу, голосом, крикнула:
— Убийцы! Большевики!
— Женская логика, — шепнул мне отец.
Мать заперлась у себя и весь вечер не выходила.
На следующее утро мы попытались с ней заговорить, но она нам не отвечала.
Когда мы уселись обедать, мать поставила перед нами миску с какой-то бурдой и зло сказала:
— Жрите!
Это было в высшей степени несправедливо. В те дни, при всем желании, жрать было нельзя. Неожиданно мать насторожилась.
— Кто-то скребется в дверь, — сказала она. — Миша, пойди посмотри.
Я подошел к двери и открыл ее. Медленной, торжественной походкой вошел Василий Андреич.
— Василий Андреич! Васенька! — радостно завопила мать.
Она подхватила Василия Андреича и закружилась с ним по комнате.
Впервые за многие месяцы Василий Андреич замурлыкал.
— Знаете, что я думаю? — сказала мать. — Каждый из нас может что-нибудь уступить Василию Андреич.
Раньше у нас еды не хватало на трех, а теперь не будет хватать на четырех — какая разница?
Мне никогда не везло со штанами. Я принадлежу к категории людей, которым следовало бы всю жизнь неподвижно простоять на ногах. Сяду на обыкновенный стул и встану с разодранными брюками. Пройду мимо чего-нибудь и, конечно, зацеплюсь.
В детстве я постоянно спотыкался и падал. Купят мне к праздникам новый костюм, я выйду в нем гордо на улицу, непременно споткнусь, непременно грохнусь о земь и встану с разодранными штанами на коленках. Или в каком-нибудь другом месте. Родители жаловались, что я их буквально разоряю, и, несомненно, были правы.
Куртки мои рвались почти исключительно на локтях, и это было не так уже плохо. Заплатанные локти имеют одно достоинство: они сзади, а спереди заплат не видно. Если смело идешь вперед, не оглядываясь назад, никто из встречных не заметит, что у тебя на локтях заплатанные рукава. В гостях где-нибудь можно стоять спиной к стенке, а лицом к публике.
Штаны — другое дело. Штаны рвутся везде, и спереди и сзади. Заплаты на штанах видны всем — и встречным и поперечным.
Такому человеку, как я, следовало бы жить в стране с тропическим климатом, или носить тогу. Я всегда завидовал Максимилиану Волошину, носившему тогу. Нисколько не сомневаюсь, что у Волошина, как и у меня, были постоянные неприятности со штанами, но у него оказалось несравненно больше мужества, нежели у меня.
Самые горькие мои страдания начались после Октябрьской революции. Как только большевики пришли к власти, в Новгороде все исчезло — и продовольствие, и одежда, и обувь. Мешочники стали ездить в хлебный город Ташкент за мукой, но никому не приходило в голову ехать куда-нибудь за штанами.
Читать дальше