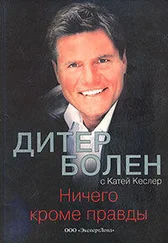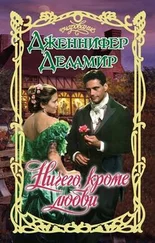А потом я оживил Кольку Филина. Он свистнул полушубок начальника, и его охрана так отделала, что он уже дышать перестал. Его на улицу за ноги выволокли подыхать на мороз. Мама поднесла меня к нему на руках, и я только потрогал его через проволоку: «Вставай, дяденька».

Он через пять минут очнулся, все отбитые внутренности встали на место. Колька нас тогда взял под свою опеку. «Кто тронет–кожу живьем сниму». После этого слава обо мне пошла по всем лагерям и, когда мне исполнилось три года, на совете авторитетов мне было присвоено почетное звание вора в законе, и кличку мне дали «Целитель», а маме «Матка Хари». Но она попросила, чтобы ее звали по имени отчеству. Так и осталась она Бела Давидовна, но за глаза все равно «Матка Хари» называли, в честь какой-то известной шпионки.
Зэки выдали маме бархатную фуфайку и перевели с лесоповала на кухню. Ей все старались угодить, очень уважали.
А потом такое началось!
Никто не хотел выходить на волю, даже те, кто отмотал свой срок, старались совершить мелкие провинности, чтобы их в зоне еще подержали. Из соседних лагерей участились побеги.
К нам!!!
Заключенные бежали сотни километров, бежали в наш лагерь!
Зимой 1954 года Васька Крот, известный медвежатник, совершил дерзкий побег с Магадана. Он шел два месяца по льду, тундре и замерзшей тайге, съел своего попутчика, после чего вначале марта уже ломился в нашу зону и требовал, чтобы его посадили в карцер. Задняя стена карцера примыкала к нашему бараку. Через три дня у него полностью прошел геморрой, цинга и туберкулез. Он стал совершенно здоровым человеком.
В 1955 году нам вышла амнистия, но в Синдоре был траур.
ЗК прощались с нами и даже начальники плакали.
Мы уезжали под звуки сборного духового оркестра. Я смотрел в окно на сторожевые вышки, колючую проволоку, серые крыши бараков и, впервые в жизни, мне было немного грустно. Гомель встретил нас парадом, я был уверен, что это все по случаю нашего приезда. Везде было полно цветов и разноцветных шариков (на них было написано 1 МАЯ). Все люди улыбались, только мои родственники все время плакали, целовались и плакали, целовались и плакали, как маленькие. Дядя Абраша нес меня на своей шее всю дорогу домой и тоже плакал.
Мне было очень стыдно за него.
Я впервые видел своих родичей; никогда не думал, что их у меня так много.

Только мы пришли домой и сели за стол, как в дверь постучали. Два дяденьки в серых плащах долго разговаривали с мамой на кухне. А мои родственники уже не целовались, а все плакали и ничего не ели, хотя на столе было полно еды. Я уплетал салат с картошкой и колбасой и нахваливал «пайку». Потом дядьки в плащах ушли и мама стала что-то говорить родичам на странном языке. Я ничего не понимал, хотя неплохо умел ботать по фене. Потом мама сказала торжественно: «Завтра едем в Москву». Я был уверен, что она пошутила, и не предал ее словам никакого значения, но уже утром прыгал на мягких бархатных диванах вагона первого класса. Поезд мчался в Столицу Нашей Родины.
Вагон был очень красивый, как дворец на колесах, но совершенно пустой, только мы и те два дяденьки. Там я первый раз в жизни попробовал апельсин. Я и не подозревал, что на свете существуют такие вкусные вещи. Проводник приносил чай и конфеты. Я чай не пил – в зоне начифирился, а конфеты я ел с удовольствием. Проводник все улыбался и спрашивал, как я себя чувствую.
Странный человек.
Как может себя чувствовать мальчик, который скоро увидит Кремль и Красную площадь. Я был на седьмом небе. Мое маленькое сердечко переполняла любовь к нашей великой Родине.
Нас поселили в огромной светлой квартире. И хотя военный по ошибке запер дверь снаружи, и мы не могли пойти в город, я был беспредельно счастлив: из окна был виден Кремль и в вазе лежала целая гора апельсинов. Потом военный привез нам вкусную еду. Мы наелись и долго сидели у окна: кушали апельсины и смотрели на кремлевскую звезду. Она светилась ярче всех звезд на свете.
Мы заснули поздно на диване у окна, крепко обнявшись, как на нарах. А ночью нас разбудили военные. Со сна мне почудилось, что мы еще на зоне, я подумал, что снова будет обыск. «Обижаешь, начальник», – сказал я, натягивая сапоги. Но дядька в шляпе потрепал меня по голове и улыбнулся, говорит, в Мавзолей пойдем. Я был уверен, что он врет: ночью, в Мавзолей? Горбатого, думаю, лепишь, дядя, кому пули льешь?
Читать дальше