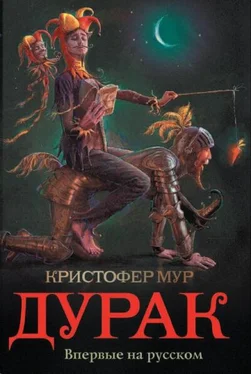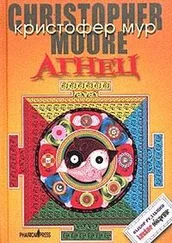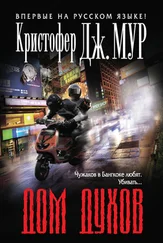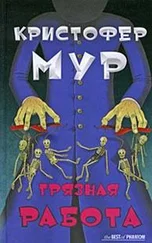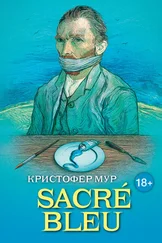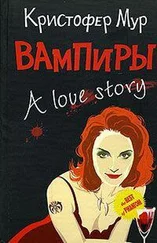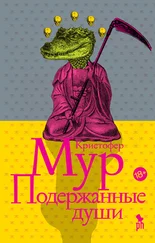Каждый день я украдкой выбирался из покоев матери-настоятельницы проверить, как идет строительство кельи. Видимо, надеялся хоть как-то искупнуться в лучах славы, коей осенят затворницу. Но стены росли, а оконце не появлялось — неоткуда, значит, селянам будет получать благословенья, как в те времена было принято.
— Наша затворница будет очень особенной, — объяснила мать Базиль своим ровным баритоном. — Она так набожна, что взор бросать будет лишь на того, кто станет приносить ей пищу. А от молитв за спасение короля ее ничто не будет отвлекать.
— Она подопечная самого короля?
— И никого иного, — ответила мать Базиль. Всех нас связывало обязательство молиться за прощение графа Сассекского, который в последней войне с бельгами загубил тысячи невинных душ, и его обрекли вечно жариться на адских углях, ежели мы не выполним его епитимью, которую провозгласил самолично Папа: семь миллионов «славься-марий» на крестьянскую душу. (Даже с индульгенцией и скидочным купоном, приобретаемыми в Лурде, граф за пенни получал не более тысячи «славься-марий», поэтому монастырь Песьи Муськи споро богател за его грехи.) Однако затворница наша отвечала за грехи самого короля. Говорили, будто он совершил некое шикарное злодеяние — стало быть, ее молитвы должны быть до крайности мощны.
— Преподобная, прошу вас, дозвольте мне относить затворнице еду.
— Ее никто не должен видеть, с нею никто не должен говорить.
— Но еду-то ей носить кто-то должен. Позвольте мне. Подглядывать не буду, честное слово.
— Справлюсь у Господа.
Приезда затворницы я так и не увидел. Просто-напросто разнесся слух, что она уже в монастыре, а работники заложили ее камнями. Всю неделю я умолял мать-настоятельницу предоставить мне священную обязанность кормить затворницу, но допустили меня к ней лишь в тот вечер, когда мать Базиль намеревалась провести ночь наедине с молодой сестрой Мэнди, дабы без помех молить о прощении, по словам настоятельницы, «потрясного стояка на выходных».
— Вообще-то, — рекла преподобная мать, — там ты и посиди до утра, у ее кельи — глядишь, наберешься благочестия. И до утра не возвращайся. Даже до полудня. А когда вернешься, захвати чаю и пару лепешек. И варенья.
Я думал, что лопну от восторга, когда в первый раз шел по тому длинному темному коридору и нес тарелку хлеба с сыром и флягу эля. Отчасти я ожидал, что увижу в оконце сиянье Божьей славы, но когда пришел к келье, никакого оконца там не было вовсе, а лишь стрельчатая бойница, как в крепостной стене, в виде креста, а края стесаны так, что у самого отверстия острые края. Как будто каменщики только такие окна в толстых стенах пробивать и умели. (Забавно, что и стрелы, и рукояти мечей — орудия смерти — образуют по форме крест, символ милосердия; хотя, если вдуматься, он и сам по себе орудие смерти.) В отверстие едва можно было протиснуть флягу, а тарелка в аккурат проходила в поперечину. Я подождал. Из кельи — ни лучика света. Освещала все вокруг лишь одинокая свеча на стене напротив бойницы.
Я устрашился. Прислушался — может, затворница новены там читает. Но внутри никто даже не дышал. А поди спит она? И что за грех прерывать молитвы такого святого человека — смертный али нет? Я поставил тарелку и флягу на пол и попробовал заглянуть во тьму кельи. Вдруг она там светится?
И тут увидел. Тусклый огонек свечи отразился в глазу. Она сидела сразу через стену от меня, шагах в двух от бойницы. Я отскочил к дальней стене и опрокинул флягу.
— Я тебя испугала? — донесся до меня женский голос.
— Нет-нет, я просто… я… Простите меня. Я трепещу пред вашим благочестием.
Тут она рассмеялась. Смех звучал печально, точно его долго сдерживали, а потом выпустили наружу чуть ли не всхлипом, но она все равно смеялась, и я смутился.
— Я больше не буду, госпожа…
— Нет-нет-нет, будь. Не вздумай не быть, мальчик.
— Я не. И не вздумаю.
— Как твое имя?
— Карман, матушка.
— Карман, — повторила она и еще немного посмеялась. — Ты разлил мой эль, Карман.
— Так точно, матушка. Принести еще?
— Если не желаешь, чтобы слава моей клятой Святости спалила нас обоих, лучше принеси, друг Карман. А когда вернешься, расскажешь историю, которая меня рассмешит.
— Слушаюсь, матушка.
Вот в тот вечер мой мир и перевернулся.
— Напомни, почему нам просто не пришить моего братца? — поинтересовался Эдмунд. Всего за час он преодолел путь негодяя — от хныкающих каракулей до сговора к убийству. Способный ученик, что и говорить.
Читать дальше