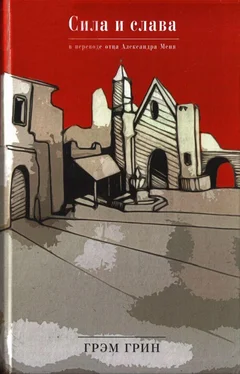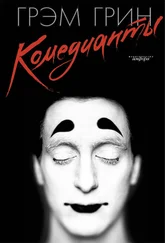Когда он говорил, впереди лежала безоблачная жизнь. У него действительно было честолюбие. Он не видел причины, почему бы в один прекрасный день ему не получить назначение в кафедральный собор столицы штата и оставить в Консепсьоне другого расплачиваться с его долгами. Энергичного священника всегда узнают по его долгам.
— Конечно, — продолжал он, выразительно жестикулируя пухлой ручкой, — здесь, в Мексике, нашей родной Церкви угрожают многие опасности. В этом штате нам еще очень повезло: на севере люди поплатились жизнью, и мы должны быть готовы… — он освежил пересохший рот глотком вина, — готовы к самому худшему. Бодрствуйте и молитесь, — продолжал он туманно, — бодрствуйте и молитесь. Дьявол, подобно льву рыкающему… — «Дети Марии» уставились на него, разинув рты, на них были темные парадные блузы с голубыми лентами через плечо.
Он говорил долго, упиваясь звуками собственного голоса; он охладил пыл Монтеса насчет «Ордена святого Винсента де Поля» — надо ведь следить, чтобы миряне не заходили слишком далеко, — и рассказал трогательную историю о девочке, которая умирала от чахотки; она была тверда в вере, и ей было одиннадцать лет. Она спросила: «Кто это стоит в ногах кровати?» И ей сказали, что отец такой-то. Она сказала: «Нет, нет, я знаю отца такого-то, я говорю о Том, Кто в золотом венце!» Кто-то из «Общества Святого Причастия» заплакал, все были очень счастливы. К тому же это была правдивая история, хотя он не мог припомнить, где он ее слышал. Наверное, когда-то читал ее. Кто-то наполнил его стакан. Он перевел дыхание и сказал: «Дети мои…»
* * *
…И когда у двери заерзал и засопел метис, он открыл глаза, и прошлая жизнь отвалилась, как этикетка: он лежал в рваных крестьянских штанах в темной хижине, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился — церквей нигде нет, нет собратьев-священников, кроме падре Хосе, расстриги из столицы. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону.
«Я был слишком честолюбив, — подумал он, — вот в чем дело». Быть может, падре Хосе был лучше его — такой смиренный, готовый принять любые насмешки; даже в лучшие времена он никогда не считал себя достойным священства. В те счастливые дни, при прежнем губернаторе, в столице однажды состоялась конференция приходского духовенства, и он помнит, как под конец каждого заседания падре Хосе пробирался в последний ряд — украдкой, пригнувшись, стараясь остаться незамеченным, и сидел там, словно в рот воды набрал. Не то чтобы он был слишком щепетильным, подобно некоторым более интеллигентным священникам, просто его переполняло чувство Бога. Когда он возносил Святые Дары, было видно, как дрожат его руки — он совсем не походил на апостола Фому, которому нужно было вложить пальцы в раны, чтобы поверить; для падре Хосе из них каждый раз лилась над алтарем кровь. Однажды в порыве откровенности падре Хосе сказал ему: «Всякий раз… я испытываю такой страх…» Его отец был батраком.
Но с ним дело обстояло иначе — у него было честолюбие. Он не был более интеллигентен, чем падре Хосе, но отец его держал лавку, и он понимал, что значит баланс в двадцать два песо и как орудовать закладными. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Его притязания вспомнились сейчас как нечто забавное, и он издал удивленный смешок при свете свечи.
Метис открыл глаза и спросил:
— Вы все еще не спите?
— Сам спи, — сказал священник, вытирая рукавом капли пота с лица.
— Я мерзну.
— Тебя знобит. Хочешь мою рубашку? Это не ахти что, но тебе будет теплее.
— Нет, нет, я от вас ничего не возьму, вы мне не доверяете.
Да, если бы он был смиренным, как падре Хосе, он мог бы жить сейчас с Марией в столице на пенсии. Это гордыня, сатанинская гордыня — лежать здесь и предлагать свою рубашку человеку, который хочет предать тебя. Даже попытки бежать он делал не от всего сердца, а от гордыни — греха, из-за которого пали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, его гордыня возросла еще больше; он казался себе таким сорви-головой, приносящим всюду Бога с риском для жизни; в один прекрасный день он получит награду…
«Господи, прости меня, — молился он пылко, — я гордый, похотливый, алчный человек, я слишком возлюбил почет. Эти люди — мученики, они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них, а не такого дурака, как я, который любит все непотребное. Наверное, лучше было бы бежать — если я расскажу людям обо всем, что здесь творится, возможно, они пришлют хорошего человека, горящего любовью…». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы: что я должен делать?
Читать дальше