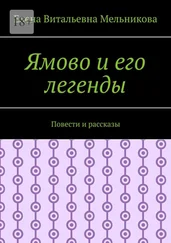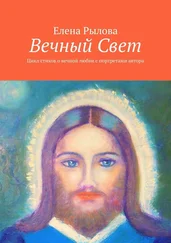– Тебе брать молока? – показываю я ему на бутылки сквозь мутное стекло.
Он качает головой. Дома он не питается. В столовой. «Одному и есть неохота».
Теперь Генька несет в обеих руках.
– На дачу потащишь? Надорвешься. Я б на месте твоего мужа…
Я ищу ключ по карманам.
– Валяй, валяй, это на тебя похоже, – говорит Генька. – Прикажешь снова в форточку влезать?
В форточку Геньке уже при всем желании не влезть. Ключ обнаружен в кошельке. Генька вносит сумки на кухню.
– Ничего у вас не меняется, – констатирует он, присаживаясь на край табуретки. – Как был бардак, так и остался. – И это ему тоже нравится. – Слушай, а не эту ли красотку мы с тобой тогда в роддом волокли?
– Ее.
– И какой долдон вымахал, на голову выше меня. Да, пора жениться.
– Женись, Генька, – я кокаю яйца о ребро сковороды, подаю тарелки и вилки.
– Смотри-ка ты, научилась кой-чему, тут не хочешь, а научишься, да? А эта твоя, без мужа?
– С мужем.
– Где он, интересно, был, когда мы ее в роддом отводили?
– Напился.
Лень рассказывать Геньке, как все произошло тогда. Входя в ум на зрелом витке, все реже думаешь: почему? Из вопрошателя становишься летописцем.
Генька ест с аппетитом. К сорока годам уже ощутимы потери.
Кто уехал, кто умер, а мы с Генькой – целы и невредимы, запиваем завтрак крепким чаем.
Звонок в дверь. Генька встает, прислоняется к стене, чтобы вошедший не заметил его. Такой стал боязливый.
Алевтинин Толян. С сеткой. В сетке – бумажный сверток.
– Мама послала. Говорит, надо сразу снести, а то закрутишься-забудешь, кто ты и как тебя зовут, – Толян запнулся, покраснел. Краска залила лицо с ушей, а нос обошла стороной. Точно, как Алевтина!
Когда он ушел, наотрез отказавшись от чая, мы развернули сверток с заначкой на будущего и, увы, неосуществившегося ребенка. Две рубашки, брюки, шорты – все застиранное, но целое.
«Хорошее кто ж кидает! Глянь, в этом платье я еще при первом муже фикстуляла, а теперь рожать пойду».
– Не выкидывай, – говорит Генька, – все-таки человек старался, берег. На даче пригодится. – Он заворачивает вещи в газету, кладет аккуратно поверх книг. Затем отключает газовую колонку, убирает тарелки в мойку, насвистывая лихой припевчик руллы-ты-руллы.
Судьба припасла Геньку на черный день. И забыла о нем. Вот он и таскается с чужими книгами и чужих жен отводит рожать. Вернее, всего одну чужую – Алевтину. Тогда же, тринадцать лет тому назад, Анька поселила у себя однорукого, прельстившись его геройством – ловко выпер с эстрады Борьку Такого.
– Как поедешь?
– На попутках.
– Ты в своем репертуаре, – вздыхает Генька. – На месте твоего мужа я бы это запретил.
…Навязчивые сны трясутся со мной в грузовике. Кто-то прячет от меня лицо, избегает свиданий, присылает вышитые гладью слова на иностранном языке. А что, если это в них указано место, где зарыт клад?
Старая няня, посылая в голодную деревню курицу, вложила в ее чрево десятку и приписала: «Ишшы в куры!». А нянина дочь не разобрала смысла, сварила курицу вместе с десяткой. Сорок лет минуло, а они все вспоминают, все горюют, какую ценность схлебали почем зря!
Все нити стянуты в узоры. Амурские волны накатывают на дунайские. Духовой оркестр нашей памяти играет под сурдинку.
Веронике Петровне приснилось много-много часов, и стенных, и ручных, и будильников, и с кукушкой.
Элеоноре Ивановне – чайные сервизы в разноцветный горошек, миленькие, и еще какой-то человек ее догонял, и сервиз один побился, – не то сама она его с подноса уронила, не то человек локтем поднос пихнул. Что-то неясное, но с посудой и с человеком.
Сильвии Эрнестовне – война, как будто кругом бомбы рвутся, а ее сын бежит по полю ягоды собирать, а там огонь, и он падает вместе с лукошком, очень страшный сон, к тому же цветной.
Ираиде Игнатьевне – лето, но не война, а наоборот, мирная жизнь на берегу моря, будто они наловили крабов, целые сети, и среди крабов маленький рачок. И жара будто, солнце светит, и все в панамках склонились над сетями, дальше что-то еще было, но будильник прервал.
Инессе Фердинандовне – будто она родила второго ребенка и ищет его в мясном магазине. И всем объясняет, что это ее ребенок, чтобы ей его отдали живым и невредимым. Такая жуть!
Анне Ивановне, машинистке кафедры, ничего не приснилось, и она ушла в свой закуток, в «зеленую зону», уселась под фикусы, кактусы и гортензии, закурила «Беломор» и принялась выстукивать очередной отчет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
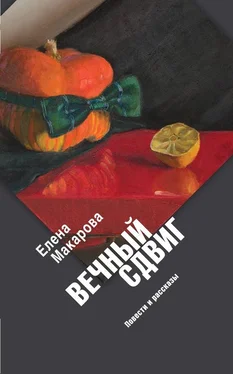

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](/books/192117/elena-koronatova-babe-leto-povest-i-rasskazy-thumb.webp)