Нет, я не наскучила ему. Это у него как бы само собой. От одиночества, может быть. У него за плечами исправительный лагерь, о какой нормальности может идти речь. КГБ ходит за ним по пятам.
«В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это – Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив…
…Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако
смотрю в окно и, написав “куда”,
не ставлю вопросительного знака…»
Грусть, с налетом сдержанной иронии. Никакой жалости к себе. Мяукая, отводишь душу. (Пусть кэгэбэшники удивляются).
Мы разговаривали, пили чай, время от времени он мяукал. Так пролетели часы. Потом я прошла сквозь шкаф и вскоре уже стояла на улице. В слепящем свете вторника. Оглушенная «сменой миров».
Это было в марте 1972 года. Три месяца спустя его выдворили из страны и он через Израиль уехал в США. Чтобы с полным правом поставить свой американский вымпел на шкаф.
С той поры за мной началась слежка. Я все время замечала в отдалении серую фигуру, ждала ли я автобуса на остановке после концерта с Алексеем или шла к дому Ефима Григорьевича. Гэбэшники были в курсе всего. В Москве они ходили за мной настолько бесцеремонно, что однажды – на этот раз их было двое – вошли со мной в лифт и, когда я нажала кнопку, в один голос сказали: «Правильно!». Мои друзья, именитые литературоведы, были обеспокоены. Они беспокоились обо мне, в то время как я опасалась, что это повредит им. Своенравной и уже пожилой Надежде Яковлевне Мандельштам было все равно, у нее часто бывали гости с Запада. Приняла она меня лежа, на убранной по-восточному кушетке, грызя семечки и задав прямой вопрос: вы верите в бога? И только получив утвердительный ответ, снизошла до беседы.
Гэбэшники внизу, до последнего. Хотя было холодно. Я взяла такси, ускользнула от них на несколько часов. Пока меня у дверей одного «известного в узких кругах» поэта-концептуалиста не перехватили два других товарища «в сером». Здесь была вечеринка со всякими странными личностями, с чтениями типа перфоманса, с необычным угощением. Соглядатаям было чем заняться.
Соглядатаи. В какой-то момент они мне так надоели, что я на несколько лет – с тяжелым сердцем – предоставила Россию самой себе.
Чтобы вернуться после «перестройки». Ленинград уже называется Санкт-Петербургом. Блещет ресторанами, магазинами, отелями, бесчисленными кафе. На доме, где жил Бродский, запертый в своих «полутора» комнатах, висит памятная доска, у Анны Ахматовой в Шереметьевском дворце, что неподалеку, музей. И даже о Набокове помнят: роскошная квартира на Морской улице, принадлежавшая семье Набоковых, теперь тоже музей. Книжных магазинов – кучи, их ассортимент покрывает все, в таком порядке: царизм, православие, эзотерика; фэнтэзи и детективы; зарубежная и отечественная беллетристика (от Набокова до Гришэма); психологические руководства; кулинарные книги; путеводители. Многие магазины работают до часа ночи.
Только времени теперь ни у кого нет. У всех свои фирмы (у Миши свой собственный небольшой театр), все бегают, приклеившись к мобильным телефонам. Стоят в пробках. Время есть у обнищавших пенсионеров, у нищих и побирушек, которые теперь почти повсюду. Уличные дети со стеклянным взглядом. Заряжены на обирание туристов. Кто хочет, может называть это возвращением к нормальной жизни. Но нормальным этот Петербург не назовешь. За вылощенным фасадом идет разложение. Криминальные группировки делают город небезопасным.
Нет, я никогда не прощалась. И Ленинград был особенным счастьем.
Счастьем?
В то время – да. Счастье как спокойствие, ситный хлеб, серый гусь. Я узнала, что такое дружба, и как это хорошо, трапеза у могилы. И калорийность слов. (Поэзия как минимальный рацион.) И шкала освещенности, когда день не кончается.
Прекрасно.
И многоголосие какого-то другого, нецеленаправленного жизненного плана.
И никаких сожалений?
К чему? Пусть даже времена и изменились.
Утрату Ленинграда и Лены я ощущала долго. В моем списке потерь они располагались на самом верху. Иначе было с невозвратимыми потерями: с комнатой для сиесты моего детства, с белыми гольфами (к началу весны), с Кестье, моей меховой варежкой.
Я скучаю по знакомому, тоскую по незнакомому. Я человек ущербный. (А кто из нас другой?) Всегда чего-то не хватает. Грелки, тенистого дерева, моря (определенного), папы (он на своей, потусторонней лыжне). Финиковых деревьев, превратившейся в степь возвышенности, крепкого плеча. Времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



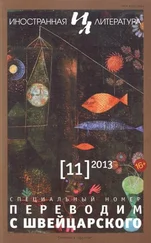


![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)





