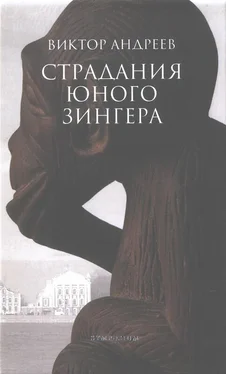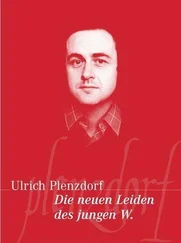Какой-то человек неподвижно сидел на скамейке совсем неподалеку от меня. Я тяжело поднялся и подошел к нему. Человек был неживой. Памятник.
«Cal-de-ron-de-la-Bar-ca», — прочитал я по слогам.
Курить мне не хотелось — во рту словно наждаком терли, — но я вытащил мятую пачку «Беломора» и дрожащими пальцами вставил папиросину в рот. Долго не мог зажечь спичку — видимо, мысли одолевали.
Вокруг, как назло, — ни души. Утро хоть или вечер? У кого спросить?
Решил обойти площадь. Невысокие, чистые дома с затейливым орнаментом. Легкие, будто парящие в воздухе, балконы. Первые этажи — сплошные витрины: прозрачные, манящие. А там, внутри, за стеклом — Боже ж ты мой! — что за дары моря и земли, что за чудеса! В жизни такого изобилия жратвы не видывал! Повернул голову направо, на бело-розовом красивом здании прочитал: «Teatro español». Постоял, раскрыв рот. Чертовщина какая-то! И еще эта странная волнистая линия над буквой «n»… Но — дальше…
А дальше — меня, как магнитом, притянула к себе стеклянная дверь. В носу защипало, защекотало. И среди восхитительных запахов — один знакомый, особенно влекущий, столь долгожданный!
Я открыл дверь.
«Мысль изреченная есть ложь», — сказал поэт. О, не верь, не верь поэту, читатель! Верь мне! Сейчас я изреку тебе самую что ни на есть правдивую истину: я оказался в раю.
Я медленно оглядывался.
Рай был бел, зеркален, просторен. Небосвод его был безоблачен, звезды его были огромны.
Ослепительно яркий свет, отраженный в бесчисленных зеркалах, резал глаза, но я увидел… Сперва я увидел себя: преломленный стеклами зеркал, я был подчеркнуто уродлив; однодневная щетина на лице лезла напоказ из всех отражений. Уютный зал; у стены — несколько столиков, за ними — несколько мужчин. В узких бокалах чистым янтарем вспыхивала в электрическом свете желтая пенистая влага. На тарелках — крупными темными виноградинами — лежали маслины. На ближайшем ко мне столике в серебристой сковородке шипело и пузырилось маслом что-то совершенно непонятное; рядом, на одной тарелке нежно-кровавым отсветом поблескивал тонкий кусок ветчины, на другой — в соседстве с бледно-желтым ломтиком лимона, темнели студенистые холодные кусочки. «У-у-устрицы!» — прокатилась по мне волна от горла до самых пяток.
За длинной стойкой, начинающейся почти сразу от двери, возле витого медного крана стоял горбоносый, черноволосый красавец в белоснежной рубашке с короткими рукавами.
Я (помогая себе руками) сел на вертящийся табурет за стойкой, сглотнул слюну, вытащил из кармана свои кровные. Смуглолицый красавец недоуменно посмотрел на рубли и придвинул их обратно ко мне.
— Сеньор… — сказал он ласково, и я понял, что если меня, возможно, бить и не будут, то на улицу вышвырнут непременно. И я сам — по собственной воле! — стараясь держаться прямо и ступать твердо, удалился из рая. И даже не оглянулся на обретенное и утраченное в один миг.
— …Так, твою мать, развалился тут фон-барон, а люд я м, бля, и сесть негде!
О, великий могучий русский язык! Великий (ростом), могучий (в плечах) парень стоял надо мной. С кружкой! В которой — одновременно бледная и мутная — плескалась желтая влага.
Привезли!
Первую кружку я осушил залпом. Со второй присел на скамейку, чтобы выпить уже «с чувством». Широкоплечий парень (мой спаситель!) лениво обнимал левой рукой щуплого старичка. Тот возбужденно бормотал:
— Сейчас вспомню… погоди, погоди… И если вспомню — еще кружку ставишь, так? Не обманешь? Сейчас… погоди… Вот: «Последний советский гражданин на голову выше любого высокопоставленного буржуазного чинуши, влачащего на своих плечах ярмо капиталистического рабства». Слово в слово! Именно так товарищ Сталин и сказал. Можешь не проверять… хотя где ты и проверить-то можешь?..
Расплескивая пиво, парень хохотал во все горло:
— Ну ты, отец, даешь! Голова! Чего знаешь-то! Надо запомнить, шефу сказать. Пусть в офисе плакат повесит. Ох, не могу! Ну-ка, повтори… Последний советский гражданин, говоришь? Ну ты даешь, папаша! Молоток! Сейчас принесу, как обещал. Уговор, он ведь дороже денег… Это я знаю. Ох-хо-хо! Ну, чистая умора!
Старичок блаженно жмурился и сопел. На губах его пузырилась не то пивная пена, не то слюна.
Какой-то худой рыжебородый мужчина, в грязно-серой расстегнутой рубашке с закатанными рукавами, поставив ногу на скамейку, декламировал стихи:
Мадрид, Париж, Берлин, Варшава,
Россия — громкая держава,
Вся умещается в груди.
Снега, дожди над крышей ржавой…
Вставай со славой и — иди!
Куда?..
Читать дальше