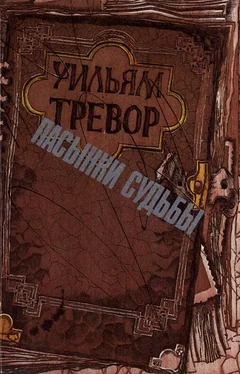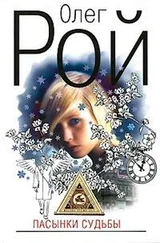Брайди поднялась и сказала, что ей пора домой, и они снова перелезли через калитку.
— Лучше субботы ничего нет! — с чувством произнес Выпивоха Иген. — Доброй тебе ночи, Брайди!
Он взобрался на велосипед и покатил вниз с холма, а Брайди еще некоторое время вела свою машину в гору, потом тоже поехала. Сквозь ночную темь катила она дорогой, по которой проезжала каждую субботу, год за годом, и по которой больше никогда уже не поедет, ибо вышел ее срок и наступил тот самый возраст. Теперь ей остается только одно — ожидание: придет день, и к ней заявится Выпивоха Иген, потому что у него умерла мать. Отца Брайди к тому времени тоже, наверное, уже не будет в живых. И Брайди станет женой Выпивохи Игена, потому что жить на ферме совсем одной очень одиноко.
Площадка второго этажа была покрыта коричневым линолеумом, а у дверей каждой из спален лежал черный коврик. От этой площадки с тремя ковриками и окном на задний двор поднимались голые ступеньки в мансарду, где спала наша служанка Бриджет. А вот лестницу на первый этаж, к ванной, уборной и спальне моих родителей, устилал ковер с узором из красных цветов — ковер тянулся и дальше, до самой прихожей, где пол тоже был покрыт коричневым линолеумом. В прихожей, рядом с вешалкой, стояло какое-то высокое растение в латунной посудине, а на столе, в полном одиночестве, — фигурка Пресвятой Девы. Обои и на площадке, и в прихожей, и вдоль лестницы были уныло-кремового цвета, без рисунка, только шероховатые — так было модно у нас в городке на западе графства Корк в дни моего, детства. Стену украшали две коричневатые картинки. На одной быки на рассвете вспахивали плугом неровное поле, а на другой фермер на закате вел лошадь к ограде двора. И вот, прильнув к балясинам на площадке второго этажа, я увидел на фоне этой кремовой стены и быков на рассвете, как отец целует Бриджет — было это в самом конце моих летних каникул.
В тот теплый сентябрьский вечер я вышел из своей комнаты, чтобы встретить Генри Дьюклоу, который всегда приходил пожелать мне доброй ночи. Я опустился на колени у перил и прижался лицом к балясинам, прижался очень крепко: я хотел, чтобы меня можно было заметить, чтобы Дьюклоу увидел меня и улыбнулся. «Черт побери, ты сегодня — первый сорт!»— прошептал отец, я хорошо расслышал этот шепот; потом он обнял Бриджет за плечи, грубо стиснул и прильнул к ее губам.
Мне было семь лет; отец называл меня Поздним цветочком». Братья и сестры мои уже выросли, но тогда я еще не понимал, что им родители отдали слишком многое и на мою долю почти ничего не осталось. Когда-то наша семья была самой обыкновенной, дети один за другим вырастали и покидали родной кров, и вот тут-то, когда матери пора было отдохнуть, а отцу убедиться, что жизнь состоит не из одних тягот, появился я. Я никогда не сомневался в чувствах моих родителей, но за те шесть месяцев, которые провел в нашем доме Дьюклоу, я понял, что он любит меня не меньше, чем они. «Пожелай ему спокойной ночи за меня!» — я не раз слышал эти слова матери, брошенные вдогонку Дьюклоу, когда он поднимался ко мне, чтобы рассказать непременную ежевечернюю сказку, и я вырос с убеждением, что моя мать — человек усталый (так оно и было на самом деле). В волосах — седина, лицо — утомленное. Дьюклоу говорил, что она, наверное, плохо спит. Многие люди плохо спят, сказал он, сидя на краю моей кровати однажды вечером (мне было тогда семь лет), и рассуждал на эту тему, пока я не уснул.
Дьюклоу, занимавший комнату рядом с моей, научил меня играть в шарики на нашем заднем дворе: двор был весь в ухабах. Из валявшихся повсюду тяжелых кусков дерева он сделал для меня аэроплан и еще объяснил мне, что звезда, хоть она и может свалиться с неба, на землю никогда не упадет. Он рассказывал истории о Колумбе и Васко да Гаме, о великих европейских монархах и о битве при Йеллоу-Форде. То, чем он интересовался в школе, он помнил отлично, а все остальное давно уже перезабыл и сам признавался: «Ученый из меня — хуже некуда!» Он пересказывал мне фильмы, которые видел, а также пьесу «Пока сдержи свой гнев». Говорил он спокойно, отвечал на все мои вопросы, роста был небольшого, тонкий, как ива, сухопарый, бледный и — сразу видно — утонченный, в отличие от моего отца. Ему было пятьдесят семь лет, отцу — пятьдесят девять.
В тот вечер, когда отец поцеловал Бриджет, Дьюклоу пришел ко мне еще раз; было уже очень поздно. Он сразу включил свет; на нем была серая пижама в полоску, порванная во многих местах.
Читать дальше