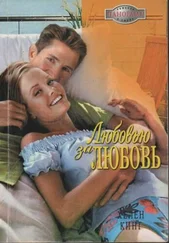— Я очень рад, что мы провели вечер вместе, — говорю я.
— Значит, вы все-таки довольны? — говорит она, и от удивления я чуть не разеваю рот. Доволен ли я?!
— А еще встретимся? — спрашиваю я. — Скажем, в конце недели?
— Если хотите.
А если я не хочу? Она-то сама что на этот счет думает? В конце концов, ну что такое поцелуй, которым мы обменялись, сидя в кино, в последнем ряду? Мы же ни о чем не договаривались, ничего друг другу не обещали.
— Если вам неохота, так не надо, — говорю я, а у самого душа уходит в пятки: ведь я же даю ей возможность отделаться от меня.
— Нет, я с удовольствием встречусь с вами, — говорит она.
Ну, теперь все в порядке. Мы останавливаемся в начале ее улицы. Да, ветер холоднющий. Я засовываю руки в карманы и втягиваю голову в плечи. То, что было в кино, куда-то уходит, улетучивается. Я чувствую, как оно тает, тает. А может быть, уже и ушло навсегда. Вот если бы я мог поцеловать ее сейчас, возможно, какая-то крупица того, что было, сохранилась бы во мне до следующего раза. Но здесь, на улице, мы снова стали совсем чужими. И я уже не могу поцеловать ее так просто и естественно, как в кино. Здесь это будет выглядеть уж очень преднамеренно.
— Пошли, — говорю я. — Я провожу вас до калитки.
— Это вовсе не обязательно.
— Но мне хочется.
— Тогда другое дело.
Мы идем по извилистой улочке, хоть и рядом, но не касаясь друг друга. Наконец она останавливается.
— Здесь?
— Здесь.
Маленький домик современной архитектуры, стоящий в глубине сада, который уступами спускается к дороге. По нынешним ценам тысячи на две с половиной потянет. Славный домик. И если его покрасить, прелесть какой нарядный будет. Не то, что наш дом — почерневший от времени каменный фасад, два этажа да еще мезонин, большущие комнаты. Не скажу, чтобы дом у нас был неуютный — наша Старушенция на этот счет большой мастак, но, чтобы обогреть его, нужна собственная угольная шахта, и уж нарядным его никак не назовешь. Интересно, что за семья у Ингрид: кто ее мать и отец, чем он занимается, я ведь ничего о ней не знаю. Я почему-то стесняюсь отца Ингрид, а почему — неизвестно: я ведь никогда не видел его и ничего такого не сделал, чтобы стыдиться.
— У вас есть братья или сестры?
— Нет, единственный младенец — это я. — И она смеется. Губы у нее при свете фонаря кажутся лиловыми, а лицо — грязно-белым. «Не можем же мы стоять тут целую ночь», — думаю я и снова прикидываю, как поцеловать. А она, интересно, ждет, что я ее поцелую, или нет? И все же здесь это как-то не с руки. И она отпирает калитку — щелкает засов…
— Ну что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо за кино, хороший получился вечер.
— Очень рад. Значит, до завтра.
Ну вот сейчас самый подходящий момент, пока она еще стоит рядом и лицо ее обращено ко мне. Она ждёт и не понимает, почему я не целую ее.
— Да. До завтра.
Все — теперь уже поздно: она входит в калитку и затворяет ее за собой. Я провожаю ее взглядом, пока она поднимается по ступенькам крыльца, затем по крутой, взбегающей вверх дорожке дохожу до угла дома. Она разворачивается, машет мне рукой, и я машу ей в ответ.
— Эй!
— Да?
— Счастливого Нового года!
Я смеюсь.
— Спасибо. И вам тоже.
И ухожу. Интересно, думаю я, что мы будем делать в это время через год, если еще будем встречаться. Наверно, я все-таки правильно поступил, что не поцеловал ее. Может, она теперь станет лучше обо мне думать. Скорее бы уж настал субботний вечер. И я пускаюсь бегом, потому что тут не до прогулок, когда столько всяких мыслей в голове.
I
Субботнее утро. Я, точно клоп, припухаю под одеялом, и мне снится, что кто-то зовет меня. Просыпаюсь и слышу: наша Старушенция под лестницей орет так, что на другом конце улицы мертвый встанет.
— Виктор! Виктор! Да сколько же тебя еще звать?!
Открываю глаза.
— Уже встаю.
В двух футах от моего носа — обои. Выбор нашей Старушенции: на сером фоне вьются, переплетаясь, розы величиной с капусту. На оконном стекле — тоже цветы, только нарисованные морозом, и, высунув из-под одеяла руку, я чувствую, какой холод стоит в комнате. Несколько секунд, пока я еще лежу, мне кажется, что это обычное субботнее утро, когда я хожу помогать мистеру ван Гуйтену в магазине. Потом я вспоминаю, что день сегодня особенный, и в груди у меня расцветает счастье, словно большой желтый цветок, яркий, напоенный солнцем и теплом.
Дотягиваюсь до часов и вижу, что уже две минуты девятого и надо поторапливаться — не то… Отбрасываю одеяло, спускаю ноги и поспешно втягиваю их назад: я промахнулся и вместо коврика попал на линолеум, а он такой холодный, что кажется, нога сейчас примерзнет. Перевешиваюсь через край кровати и отыскиваю носки. Надеваю их, затем всовываю ноги в ночные туфли. Вылезаю из постели и снова сбрасываю ночные туфли — надо же снять пижамные штаны. Брюки у меня до того заледенели, что кажется, поставь их — будут стоять. В такую погоду за складку можно не опасаться — не разойдется. Я лечу в ванную, когда Старушенция подходит к лестнице и уже открывает рот, чтобы снова приняться за свою песню, но, увидев меня, умолкает, точно ей заткнули горло пробкой.
Читать дальше
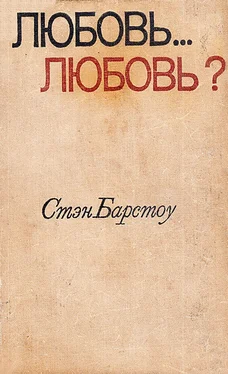
![Стэн Барстоу - Святая ночь [Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей]](/books/26022/sten-barstou-svyataya-noch-sbornik-povestej-i-rassk-thumb.webp)