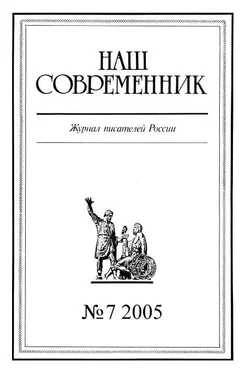Город бомбили уже «красные», как тогда принято было говорить. В полуразрушенном двухэтажном доме мама на первом этаже «слепила» одну комнатку, смастерила печку с лежанкой для меня (я почти не ходила от истощения и холода: зимней одежды у нас не было). На развалинах мама отыскивала остатки одежды и всё, что было пригодно для нашей новой жизни. Дрова для печурки мама тоже добывала на развалинах. Еда. Желание есть, чувство голода не покидало нас даже во сне!
Сумская область — край сахарной свёклы. Часть колхозных полей осталась неубранной. Мама ходила в поля, выковыривала из мёрзлой земли мёрзлую свёклу и приносила домой. Мы её варили, пекли, выжимали сок. Это была основная наша еда. Иногда мама приносила мёрзлую картошку, тогда были лепёшки из картофельных очисток и крахмал для киселя из свёклы. Через месяц при запахе свёклы меня уже тошнило. Первый раз после Тростянца есть свёклу я смогла только в четырнадцать лет! И ещё еда: моя тёпленькая лежанка была у окна, я наблюдала за бездомными собаками. Если они оставляли большую кость, я звала Инну или Галю, они бежали и приносили кость домой. Мама кости долго-долго вываривала, остужала бульон на холоде и собирала жир. Уходя в поле, иногда на весь короткий зимний день, мама оставляла нам лепёшки, Бог весть из чего сделанные. Всем по одной. И однажды к нам зашёл просить милостыню ещё более несчастный опухший ребёнок. И Инна отдала ему свою лепёшку. Мальчик у нас на глазах жадно её съел. Мы были потрясены: значит, не мы одни так бедствуем, есть ещё более несчастные! И с трепетом ждали прихода мамы: что она скажет о поступке Инны? Когда мама пришла, мы наперебой стали ей рассказывать, какой мальчик опухший, как нам его было жаль. Мама ничего не сказала, только внимательно посмотрела на нас печальными глазами и прижала Иннину головку к своей груди. Три лепёшки мы поделили на четверых.
Наша новая жизнь на чужбине была горькой и голодной, но то, что наступило через месяц господства немцев, ни в какое сравнение с голодом не идёт!
Так получилось, что облюбованный мамой дом (где мы теперь жили) был домом, где жили до войны семьи работников горкома партии и райисполкома. Дом стоял в небольшом скверике. Вот в этом сквере фашисты установили помост и виселицы. Казни проводились почти каждый день: женщин раздевали до сорочки, мужчин до подштанников. На шею вешался кусок фанеры, на котором чёрным был начертан один из четырёх вариантов вины: «коммунист», «юде», «партизан», «бандит». Немецкие холуи — полицаи из местных жителей (слово «полицай» слышать не могу до сих пор) — прикладами винтовок сгоняли прохожих, случайно оказавшихся вблизи места казни. Когда зрителей, по мнению палачей, было достаточное количество, выходил вперёд сидевший до этого на стуле офицер, что-то гортанно каркал, «речь» обычно заканчивал одним из четырёх слов, определяющих вину жертвы. Полицай вешал на шею жертве плакат с обозначением вины и накидывал петлю на шею. Офицер-немец делал энергичный взмах рукой, и полицай выбивал тумбу из-под ног обречённого. Минуту-две полицаи зубоскалили относительно поведения повешенного. Офицер с достоинством удалялся под защитой немцев-автоматчиков.
Казнённые висели обычно 2–3 недели, а то и месяц, по мере поступления новых жертв. Стояла зима, окоченевшие трупы раскачивало ветром, виселица скрипела.
Почему я всё так детально запомнила? К нашему ужасу, окно нашей комнатки выходило на помост с виселицами. Завесить окно было нечем, уйти от этого ужаса — некуда. И так как с наступлением вечера в комнате становилось темно, раскачиваемая ветром тень казнённого перемещалась по стенке нашей комнатки. Мы засыпали под скрип виселицы и движение тени казнённого на стенке. Мама пыталась отвлечь нас от жуткой действительности: с наступлением темноты она беспрерывно рассказывала нам «Хижину дяди Тома», «Приключения Тома Сойера», «Отверженных»…
И всё-таки мы бы в эту зиму не выжили, если бы не добрые люди! Где-то в январе 1942 года в здании горкома партии (в его уцелевшей части) разместилась чехословацкая сапёрная часть. При ней была кухня. Это здание тоже находилось в сквере, как и наш дом.
Чешский язык, если к русскому и украинскому добавить жестикуляцию, вполне понятен русскому человеку. Повар кухни заприметил молодую, в отрепьях, женщину (маме было 38 лет) с выводком почти раздетых детей и заинтересовался нами. После объяснений мамы он проникся состраданием к нам: велел маме каждое утро присылать Галю или Инну на кухню за «кавой», то есть чёрным кофе, вернее, его суррогатом. У немцев настоящего не было ничего, хоть они и не пили воду: на ремне у каждого солдата была фляжка, которую он после завтрака наполнял «кавой». И пил только её, эту мерзкую «каву». Мыло у немецких солдат тоже было какое-то суррогатное, оно не мылилось и не пенилось, было похоже на смесь глины с чем-то ещё.
Читать дальше