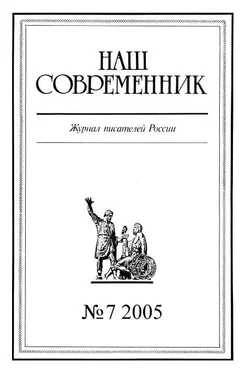До этого дня я помню отдельные эпизоды и отрывки из моей жизни. С этого дня — сфотографирован памятью каждый день и час.
23 июня 1941 года мы эвакуировались. Эшелон был составлен из товарных вагонов, приспособленных для перевозки людей: вагон делился на отдельные отсеки, в каждом отсеке — обширные нары. Отсеки были побольше и поменьше. В отсеке размещалась, как правило, одна семья: многодетная — в отсеке побольше, малочисленная — в отсеке поменьше. Нас, детей, всё это (вагоны, суета, предвкушение путешествия в поезде), даже невзирая на мамин расстроенный вид, очень радовало! Нам попалось «купе», как назвала наш отсек мама, очень удачное: в нём было окно, и если встать на цыпочки, можно было выглядывать на улицу и радоваться свежему ветру. Окно было незастеклённым и являлось единственным способом вентиляции: в вагоне очень скоро наступила духота. Плакали грудные дети, стонали больные старики. Через двое суток путешествия нам уже не так радостно было, и мы осторожно начали спрашивать маму, когда мы поедем домой. Мы ещё не осознавали, что это всеобщее горе и мыкать нам его придётся ещё ой как долго!
Но окончательно в ужасе войны и эвакуации мы уверились в ночь с 26 на 27 июня: наш состав (как о нём теперь всегда говорили — «состав эвакуированных») был отведён на тупиковый путь станции Пинизевичи. Рядом стоял состав с цистернами горючего. Ночью налетели фашистские стервятники: сбросив на парашютах фонари и осветив железную дорогу, они принялись бомбить, делая заход за заходом. Первой взрывной волной (рвались цистерны с горючим) выбросило в открывшуюся дверь вагона маму с Галей, так как они спали с краю. Вернуться за нами с Инной они уже не смогли: сминая всё на своём пути, обезумевшие люди бежали прочь. В этом аду огня, криков о помощи, молитв о спасении (на русском, украинском и еврейском языках) мы с Инной остались одни. И совсем неожиданными для нас в этом кошмаре стали слова утешения молодой еврейки: она не смогла оставить больную маму и осталась в вагоне. Наверное, она была учительницей, во всяком случае запас её сказок был неисчерпаем! Поглаживая меня по голове, она приговаривала: «Не плачь, все цистерны уже взорвались, наш вагон не загорелся, скоро рассвет, придёт мама, спи». И правда, под её шёпот и под стихающую канонаду мы с Инной уснули.
Ночью состав представлял собой сплошной факел, и мама не могла различить наш вагон. Почти в бессознательном состоянии вместе с другими пассажирами из нашего состава она ждала утра. За эту ночь мы сразу стали взрослыми: не задавали глупых вопросов типа «когда поедем домой», не канючили «морса» (сладкой воды), ели всё, что давала мама, и, главное, присмирели. Мы поняли, что это не просто беда, а огромная беда, одна на всех!
На наших глазах уносили обгоревшие трупы из вагонов, увозили заходившихся в крике раненых детей и взрослых. Погибших хоронили здесь же, у кромки леса. Вагоны расцепили, переформировали, составили новый состав, и мы поехали дальше, на восток.
Так мы ехали до конца августа. В августе наш состав загнали на запасной путь станции Тростянец Сумской области. Пропускались дальше только поезда с ранеными, живой силой и техникой: много лет спустя из военной литературы я узнала, что это был «харьковский котёл». Нас, беженцев, временно расквартировали по домам жителей Тростянца.
Не повезло нам с хозяевами — эти люди были злобно настроены против советской власти и на всех эвакуированных смотрели с подозрением — зачем, дескать, бегут от «цивилизованных» немцев? Нам они не давали ни крошки хлеба, да и работы для нашей мамы не было, все предприятия сворачивались и эвакуировались на восток. Наступал голод.
На наше счастье, в соседнем подворье обосновалась солдатская кухня, и добрый повар «поставил нас на довольствие». Но мама ходить за едой стеснялась, мы ещё не привыкли к положению нищих. И тогда повар, подозвав меня, отрезал огромный кусок сала, достал буханку хлеба и со словами «донесёшь?» — вручил мне. От счастья накормить маму, от человеческой щедрости и доброты мои руки обхватили эти сокровища, а ноги быстро-быстро понеслись к маме! Как весело мне вслед смеялись молодые солдаты! И мне опять было непонятно, почему при виде всего этого чуда мама заплакала.
События развивались стремительно: где-то в начале сентября 1941 года наш хозяин с хлебом-солью пошёл встречать немцев, вступающих в город.
Как только вошли в город немцы, хозяева нас из дому выгнали. Мама больше не плакала, заплакала она только в 1947 году, когда отменили продуктовые карточки.
Читать дальше