— Здорово, бандиты! — появился между ними Котька.
Манкевич демонстративно отвернулся в сторону, а Кич, не вынимая изо рта сигару, с ухмылкой прогундосил:
— Неграмотный ты человек, Костя. Министр МВД товарищ Щёлоков на весь мир заявил, что в Советском Союзе с бандитизмом давно покончено.
— Стало быть, здравствуйте, братцы-покойнички! — исправился Котька и первым расхохотался.
— Вот, стервец! — хмыкнул Кич, и желтоватые от чифира глаза его потеплели. Вслед за паханом снисходительно заулыбались и остальные.
Костя развернул свёрток, протянул Кичу несколько полосок стали:
— Нарубил и узких, и широких. Не дамасская, конечно, но углеродистая. Получено кузнечной сваркой, так что — почти булат!
Кич повертел в руках две полоски, постучал одну о другую, и вдруг, как фокусник, выхватил откуда-то из-под себя кривой арабский клинок и со всего маха полоснул им по железу, да так, что искры полетели. Придирчиво осмотрел лезвие ножа, потом полоску стали, довольный, поцокал языком, пыхнул дымом сигары и произнёс:
— И здесь, Костя, неграмотно поступаешь. За выточенные лезвия я по четвертаку за штуку не пожалел бы. А тут за все железяки — червонец.
— Мне ничего не надо, — отмахнулся Котька.
И опять неизвестно откуда в руке Кича появился новенький красный десятирублёвый казначейский билет.
— Ещё одна промашка, Костя, — впалые щёки Сани мелко затряслись, — Кич никогда в должниках не ходит. А вот мне — все должны!
Он зажал сигару зубами и, присвистывая, загыкал.
«Курит, как пьяный боцман, а зубы белее, чем у негра, — подивился Котька. — Отбеливает или вставные? Попробовать бы на кулак».
С берега просигналила подъехавшая чёрная «Волга». Лёнька метнулся к борту, приветливо помахал рукой.
Котька краем глаза ухватил, что из машины вышла расфуфыренная дама в широкополой соломенной шляпе с голубыми лентами. У трапа дамочку подхватил под руку шофёр в знакомых Карякину клетчатых брюках.
— Свободен! — небрежно сказал ему Манкевич и кивнул своим амбалам, чтобы они тоже очистили палубу.
— Напрасно ты грубишь Косте, — строго сказал Кич Лёньке, когда они остались одни. — Толковых парней надо выводить в люди, иначе кто станет помогать нам?
— Котька дурак, да ещё крещёный. А своё мы и сами отберём без посторонней помощи, — жёстко, как по писаному уставу, отчеканил Манкевич.
— Я тоже крещёный! — взвился Саня и выплюнул сигару в сторону Лёньки. — Ты, парчак, ещё под стол пешком ходил, когда я уже имел червонец в руки, три под мышку и пять по рогам!
Лёнька молчал, но желваки так и ходили по его скулам. Он поднял толстый окурок, подул на его тлеющий конец и нарочно выбросил за борт, зная, что Кич отдавал докуривать чинарики бакланам.
— Думаешь, я не знаю, что ты с лаврушниками снюхался? Думаешь, не понимаю, чего они хотят?
— Наверное, не понимаешь, если орёшь, — сказал Лёнька в сторону, но Саня услышал его.
— Вор в законе никогда в политику не пойдёт! И обрезанному не сидеть сверху!
На этот раз Манкевич промолчал, но его потемневшая физиономия без слов выражала: «Это мы ещё посмотрим».
— Да пойми ты, — взял себя в руки Саня, — без нас не удержать миллионы заключённых в тюрьмах. А коронуют только по воровскому закону. Зачем же рвать сиську, которая нас кормит?
— А зачем столько шума? — пересилил себя и Лёнька. — Никто ничего рвать не собирается. Смотри лучше, какие к нам гости! — А глянув на синие, густые наколки Кича, добавил: — Рубаху накинь. Сегодня афишировать своё прошлое вряд ли уместно.
* * *
Серые брюки в крупную клетку. Казалось, они сами памятовали о себе, и память эта вызывала у Котьки инстинктивное беспокойство, даже тревогу. Она захлёстывала его всякий раз, когда он поднимался на крышу сарая к голубятне. Тревога исходила из-за высокого, всё ещё крепкого забора, за которым рос яблоневый сад.
Как-то ранним утром, в конце июня, Котька под воркование птиц и собственное: «Гуль-гули! Гуль-гули!», прибрался в голубиной хатке и, как всегда, выбросил сухой помёт в сад, ненароком спугнув стайку синиц, которая вспорхнула на высокие ветки китайской ранетки. Он проводил их взглядом и увидел в густой листве маленькие зелёные яблочки, сразу вспомнив, с каким наслаждением, макая в соль, поедала их озорная детвора. Представив, как хрупали на щербатых зубах кислые плоды, Котька непроизвольно ухватился за щёки: у него повело скулы, и рот заполнился слюной. Он даже передёрнул плечами, как бы сбрасывая наваждение, но так и не смог одолеть неимоверное желание подержать на языке кислинку.
Читать дальше




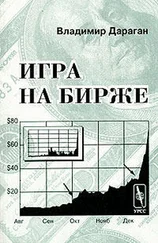


![Владимир Мясоедов - Игра за выживание [СИ]](/books/418882/vladimir-myasoedov-igra-za-vyzhivanie-si-thumb.webp)

