Людмила задумалась, растерянно развела руками:
— Наверное, хорошо, когда дети — это мы сами, только очень маленькие. Ты никогда не хотела снова стать маленькой? Чтобы тебя гладили, целовали, трепали за щёчку, совали сладости?
— И пороли, когда вздумается, — Вера со злостью бросила на стол вилку.
— Что? — не сразу поняла Людмила. — Тебя били родители?
— Мягко сказать, били! — Вера передёрнула плечами, как в ознобе, и лицо её стало белее печной штукатурки.
— Прости, я не знала, — стыдясь чужой тайны, тихо произнесла Людмила.
— Никто не знал. И сейчас как-то само с губ сорвалось.
— Слово даю, никто и не узнает! — горячо заговорила Людмила. — Не нам судить своих родителей. Не стерпела, уехала подальше от них, и хорошо! Только не копи обиды на сердце, оно живое, лопнуть может. Ты им письмо напиши: тёплое, доброе. Они поплачут и сами прощения попросят.
— Уже не попросят. Весной пьяными в бане угорели.
— Господи! — Людмила зажала себе рот руками, не зная, что сказать, и готовая заплакать.
— Ежели бы не били, чем ни поподя, я может и стерпела.
— За такие дела в тюрьму сажают.
— Посадить в тюрьму родителей? — отпрянула Вера, и в чёрных глазах её полыхнул такой огонь, что у Людмилы сердце обмерло. — Я любила их. Я только пьяными их ненавидела. И ненавижу до сих пор.
— Мёртвых?
— Нет, я их каждую ночь во сне живыми вижу. Сначала всё хорошо, благостно так, будто в сенокосную пору. Родителей нет рядом, но я их чувствую: мать сено ворошит, отец сырой травой косу вытирает. Высоко в небе жаворонок заливается, у телеги распряженные кони всхрапывают. А мне почему-то страшно есть хочется. Я развязываю котомку, ищу хлеб и получаю затрещину по затылку…
— Теперь понятно, отчего ты по ночам стонешь, — Людмила уже знала, что делать. — Завтра, девонька, я тебя к знатному психиатру отведу. Этот еврей любого вылечит.
— Я не сумасшедшая, — запротестовала Вера.
— Ещё не вечер!
— Вы накаркаете.
— Я такая, — словно сбрасывая с себя наваждение, рассмеялась Людмила. — Давай завтракать, остыла, небось, твоя картошка. Да вилки возьми Василь Степаныча, чай не в столовке.
— Жалко мне евойные-то.
— Во-во, а самих себя вам не жалко? Люди в космос летают, а вы никак не отвыкните жизнь мерить фуфайками да галошами. Уж на что моя бабаня была тёмной, а всё твердила: «Платье чисто, так и речь честна». Моя бы воля, обеденный стол всегда застилала белой скатертью.
— Как в ресторане?
— Как в доме, где помнят о человеческом достоинстве.
— Можно и в фуфайке сохранить своё достоинство, — несмело возразила Вера. — Скоро будем жить лучше, разве не так?
— Обязательно будем, Верунчик, — как-то сразу согласилась Людмила, но не смогла удержать улыбку: — И давай, подружка, не будем больше о грустном!
— Расскажи, как ты с Константином Васильевичем познакомилась, — как-то вдруг попросила Вера.
— Тю-ю-ю! — вилка с огурцом застыла на полпути к Милкиному раскрытому рту. — А чё с ним знакомиться? Мы в одной школе учились. Я только на три класса младше была. Но ты сама знаешь, младшие девчонки всегда на старшеклассников заглядывались. Правда, они нас не всегда замечали.
— И как же вы… — Вера не могла подобрать нужное слово и робко произнесла: — ну, сошлись-то.
Людмила сначала нахмурилась, словно вопрос был ей не по нраву, но потом, любовно оглянувшись на спящего Котьку, гордо произнесла:
— Любила я его, подружка, так сильно, что и помыслить не могла, будто он кому другому достанется. Любовью и приворожила. А об остальном тебе знать не обязательно.
Но настырная чувашка не сдавалась:
— Чудно, однако. Живёте не расписанные.
— Осуждаешь?
— Нет, но я бы так не посмела.
— Правильно мыслишь, — с усмешкой вздохнула Мила. — Только жизнь порой так закрутит, что забудешь о всех правилах. Одна любовь и спасёт от неверного шага. У меня ведь в паспорте штамп стоит, что я мужнина жена вот уж сколько лет.
Вера потеряла дар речи. Её вишнёвые глаза застыли от ужаса.
Людмила поняла, что сказала лишнее и поспешила успокоить девушку:
— Ты не подумай чего. Не успели женой в зале регистрации назвать, а вышли из загса, и молодую при всём честном народе Валерка Мельников с приятелем умыкнули. Подкатили грузовик к самому крыльцу, мне в открытую дверцу запрыгнуть оставалось. Я свадебное платье задрала — фьють! — только и видели меня.
— И что? — как сквозь сон пробормотала Вера.
— Ничего. Родители двое суток в обмороке валялись. Суженый-ряженый, в голову контуженный, укатил в свой задрипанный гарнизон на Дальнем Востоке. Митьку на Флот забрили. Осталась я куковать одна, дур-р-ра разнесчастная. А дальше ты всё знаешь.
Читать дальше




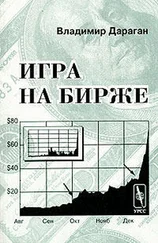


![Владимир Мясоедов - Игра за выживание [СИ]](/books/418882/vladimir-myasoedov-igra-za-vyzhivanie-si-thumb.webp)

