Правила этой игры незатейливы: чертятся три параллельные линии, обозначающие середину и границы игрового поля. По центру стопкой складываются монетки, в основном трёх и пятикопеечного достоинства. С шести или десяти шагов, как условятся, в стопку-куш кидают свинцовой битой. Нужно умудриться разбить, а на дворовом жаргоне — расшибить, кучку мелочи так, чтобы ни одна монета не выкатилась за поле. Тогда метавшему разрешалось той же битой, ударяя ребром по краю, переворачивать раскиданные деньги. Скажем, перевернул с орла на решку — выиграл, не перевернул — уступи место другому.
Поначалу азарт проявлялся не в том, чтобы выиграть много денег, а в удали, в ловкости, которую хотелось показать каждому, тем более на виду у девчонок.
— Не хило я вас! — выставлялся очередной сорви-голова, которого не далее, как вчера, пинками выгоняли из игры за жульничество. — Считайте, вставил дыню в полный рост! — И словно утверждая своё превосходство, выстреливал сквозь щербатые зубы тоненькой струйкой пенистую слюну себе под ноги.
— Ах ты, бычок в томате! — набрасывались на мальца со всех сторон. — Закрой поддувало! Ставь на кон, а то посадим на кол!
— Не троньте его, братцы, — извиваясь тощим телом, вопил Валерка Мельников, — я видел, у него грудь в тельняшке!
— А задница в ракушках, — бесстрастно уточняла Натаха, и вся ватага вместе с везунчиком покатывалась со смеху, хотя сальной шутке было лет сто отроду.
Но если в компанейский круг присаживались парни повзрослее, дело приобретало иной оборот. На кон ставились мелочью уже рубли и трёшницы, и никто не мог занижать ставку. Неимущим отпускали деньги в долг.
Теперь на везение надеяться не приходилось. Парни играли мастерски, вместо свинцовой биты используя тяжёлый медный екатерининский пятак. При любом раскладе, куш всё равно срывали они. Ропот мелюзги безжалостно подавлялся кулаками.
Задиристого Котьку вместе с настырными братьями Мельниковыми поколачивали часто. Но когда они подросли, окрепли, и уже их кулаки могли размазать кровавые сопли на любой приблатнённой харе, ребят оставили в покое.
— Ты, Костя, парень что надо, — сказал как-то Карякину известный в округе вор Саня Кич, — и панацы у тебя путёвые.
Саня сидел голый по пояс и в закатанных до колен белых брюках на раздолбанной волнами лодчонке, ковырял грязными пальцами ног мокрый песок с галькой и притворно лениво почёсывал узкую грудь в ядовитых наколках. За его спиной подобострастно маячил Лёнька Манкевич, который давно бросил школу и ушёл от родителей на вольные хлеба.
— Только не возьму в толк, — тихо, чтобы не всё слышал Лёнька, проговорил Кич, — с кем ты? Вчера дрался с парковскими за пролетарских, сегодня — с пролетарскими за парковских. Пора, Костя, определяться.
— Мы уродов бьём, а чьи они, парковские или пролетарские, нам до фени.
— Выходит, сами по себе? — ожёг Саня Котьку ледяным взглядом и, как в ресторане официанта, щелканьем пальцев подозвал к себе Манкевича.
— Видал пионера? Любит и папу, и маму, но справедливость любит больше. Будешь корчить из себя Павлика Морозова?
— Он у нас Павлик Корчагин, — ответил за друга Вовка Мельников, который неспешно, размеренными движениями накачивал велосипедным насосом футбольный мяч. — Любую контру за километр чует.
— Прямо как наш Буран! — кривляясь, уточнил Валерка и тут же изобразил вислоухого пса.
Стоявшие вокруг мальчишки рассмеялись.
— Не хочешь дружить со мной? — уже мирно спросил Саня.
— Не хочу ссориться.
— Разойдёмся правыми бортами?
— Давай отмашку, капитан!
Шутка Кичу понравилась: он умел ценить независимых людей. Негласно дав Карякину вольную, он наказал Лёньке не спускать глаз с Котькиной компании.
Так случилось, что тем же летом, Кич, после шумной драки на танцплощадке в парке культуры и отдыха имени писателя Горького, спасаясь от гнавшихся по пятам милиционеров, наткнулся на Карякина, зевавшего в воротах своего дома.
— Ныряй в сарай, потом в погреб, — машинально указал Костя на распахнутые двери.
А через несколько дней Лёнька принёс Котьке тяжёлый медный пятак одна тысяча семьсот девяносто первого года с барельефом Екатерины второй:
— Держи, Кич тебе дарит.
— Так я вроде своей битой играю, — смутился Карякин.
— Не важно, — нахальные серо-зелёные глаза Лёньки смотрели мимо Котьки, видимо Манкевич боялся выдать свою зависть. — Кич сказал, что в расшибного играют всю жизнь. Кто кон не сшибает, тот лоб расшибает.
Читать дальше




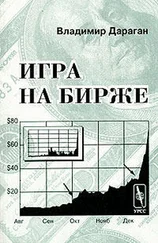


![Владимир Мясоедов - Игра за выживание [СИ]](/books/418882/vladimir-myasoedov-igra-za-vyzhivanie-si-thumb.webp)

