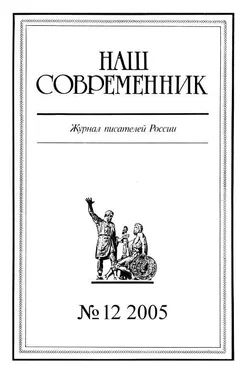Отношение к русским православным храмам было у него трепетно-возвышенным. Храмы в родном Фатеже и Курске знал все до одного, любил вспоминать о каждом в отдельности, светло и заветно. Любовь к русской сельской церковке звучит во многих его произведениях.
Однажды, рассказывая ему о нашем талежском храме Рождества Богородицы, построенном крепостным архитектором Бабакиным, учеником Казакова, имеющем два придела — Святых князей Владимира и Александра Невского, я сказал, что мечтаю о восстановлении памятника.
— Георгий Васильевич, — говорил я, — там такая акустика, там такой великий объём света и звука, даже при нынешней разрухе… А вокруг — полевые угоры, простор, пашни, возделанные ещё славянами, былинная красота и воля!.. Там Гурилёв написал своего «Жаворонка». Вы представляете, какое это чудо: среди российской сельщины — древний восстановленный храм, а в нём — концертный зал памяти русского композитора Гурилёва!
До этого момента Георгий Васильевич слушал меня с интересом, а тут вдруг замахал рукою:
— Что вы, что вы, Юрий Николаевич! Какой концертный зал?! Нет, нет! Православный храм может быть только православным храмом и ничем более! Даже не думайте об этом… Не берите грех на душу! Русский человек должен либо восстановить свои культовые святыни, вернув Богу дом Его, либо они будут страшным запустением своим напоминать нам о нашей национальной трагедии. Будить совесть… — Помолчал недолго и добавил с грустью: — Если она проснется, если она есть… совесть.
Этот коротенький монолог перевернул мою душу, и я вполне осознал такое простое и такое важное: даже поруганная святыня остаётся святыней и ничем другим.
В тот вечер за столом первый бокал шампанского подняли, конечно, за Георгия Васильевича. Но он решительно воспротивился. Тост предложил поднять за Нестеренко. Евгений Евгеньевич, хорошо зная характер Георгия Васильевича (тот и на дух не терпел ложной скромности), принял с благодарностью сказанное о нём Свиридовым.
После столь многотрудного концерта (Нестеренко чуть ли не час пел сверх программы на «бис») певец был по-молодому свеж и лёгок в разговоре. Оказалось, что он не просто читал книги Майи, но почитал их, любил. Майя попробовала пошутить, что он просто льстит ей. И тогда великий певец, совсем уж по-мальчишески, начал пересказывать прочитанное. Был Нестеренко в общении прост и доверителен. Сказал между прочим:
— У меня тоже вышла книга. Не проза, конечно, кое-какие мысли… Раздумья артиста. Хотите, я вам пришлю?
Майя хотела. И он прислал книгу с надписью: «Майе Анатольевне Ганиной от глубоко уважающего её Евгения Нестеренко».
Георгий Васильевич был, несомненно, доволен, что вся наша небольшая компания сосредоточилась вокруг Нестеренко: это позволило ему поговорить с глазу на глаз с митрополитом Ювеналием. Думаю, что появление владыки на том концерте было не случайным. Его визит, скорее всего, означал, что композитор уже тогда приступил к работе над величайшим и, увы, до нынешнего дня не вполне оцененным музыкальным циклом, вершиной современной духовной музыки — «Из литургической поэзии».
Как-то, уже в начале девяностых, я услышал от него:
— Произведения Рахманинова были последним солнечным выплеском христианства в русской музыке. Дальше только мрак, дьявольщина, смакование всякого зла, презирание истинного добра и света. Воспевание тьмы. И всё это вершится доныне и даже с некоторым блеском и талантом. Для такой музыкальной «культуры» христианские ценности — как знамение для беса.
Вернуть христианство в русскую музыку, сделать его необходимым для души, помочь человечеству преодолеть магию зла и по мере своих сил и таланта служить раскрытию Истины мира, — такую и только такую задачу ставил перед собою Свиридов. Ради этого жил и творил. Он был последователен и непреклонен в этой святой для него вере.
С посещения Новодарьино мы не виделись со Свиридовыми до конца года.
В начале октября меня увезла «скорая помощь» с сердечным приступом в Институт Склифосовского. Из Талежа до Москвы путь немалый, и где-то посередине, под Подольском, начал я умирать. Пришлось врачам остановить машину и «реанимнуть» меня. В клинике пролежал два месяца. Поначалу в палате интенсивной терапии, где все интересы сосредоточены на одном — не умереть бы, а потом в общей палате на тридцать коек, тут задача уже другая — как бы выжить. И там и там помогало решить эти «задачки» «Слово о полку Игореве». Уже чуть ли не в реанимацию Майя принесла самую большую нашу книжную драгоценность — ретопринт первого издания «Слова…». С ним я и боролся с болезнью. И были для меня живительными ещё и каждодневные посещения Майи, наши с ней разговоры о будущем, в которых немалое место занимала дружба с Георгием Васильевичем и Эльзой Густавовной. Они постоянно звонили Майе, интересовались моим здоровьем. И это тоже было действенным лекарством. Поэтому первый свой выход в мир после больницы, а потом ещё и постельного режима дома совершил я к Свиридовым…
Читать дальше