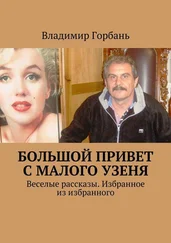Он вышел пошатываясь.
Я велел Мустафе поить его медом, заставлять гулять, уговаривал снова приняться за переписку Корана, предлагал раздобыть золотистой и красной краски, а он отказывался, замыкался в себе, все более отчуждаясь. Словно мое внимание стало для него подлинной пыткой.
— Ты разбалуешь его,— с напускной укоризной говорил хафиз Мухаммед, но нетрудно было заметить, что он доволен. Его волновала чужая доброта, хотя он сам никогда не хотел ни с кем себя связывать. Доброту он считал равной восходу солнца: ею следовало любоваться.
— Ослабел он,— ответил я, защищаясь.— Что-то с ним происходит.
— Ослабел в самом деле. Не влюбился ли?
— Влюбился?
— Чему ты удивляешься? Он молод. Лучше бы ему жениться и уйти из текии.
— Кто пойдет за него? Та, в которую он влюблен?
— Нет, ни за что! Но разве мало у нас девушек?
— Я вижу, тебе что-то известно. Почему ты заставляешь меня гадать?
— Да нет, я знаю совсем немного.
— Скажи, что знаешь.
— Вероятно, не следует говорить об этом. Может быть, это только мои домыслы.
Я не настаивал, я знал, что хафиз Мухаммед заблуждается, и знал, что́ он расскажет. Его отговорки смешны, ведь для того он и начал разговор, чтобы все выложить. И бог знает что он видел и что придумал в своей наивности. Не много ожидал я от его рассказа.
Однако рассказ его показался мне странным. Однажды хафиз Мухаммед шел к отцу Хасана и у ворот дома, где живет кадий, увидел моллу Юсуфа. Тот нерешительно заглядывал в окна, потом направился к двери, остановился, затем медленно, озираясь, удалился. Он чего-то хотел, чего-то ожидал, кого-то искал. Хафиз Мухаммед не стал его ни о чем расспрашивать, когда они встретились, юноша отговорился тем, что случайно забрел сюда во время прогулки. И вот именно эти-то его слова вызвали у хафиза Мухаммеда подозрения и сомнения, ибо вовсе не случайно он там оказался и не во время прогулки. Хорошо, если дело обстоит иначе, чем он думает. Поэтому он и молчал до сих пор.
— Что ты подозреваешь? — оробело спросил я, внезапно приблизившись к тайне.
— Мне стыдно говорить об этом. Но он странно вел себя. И потом солгал, чтоб оправдаться, значит, чувствовал за собой вину. Я решил, что он влюблен.
— В кого? В сестру Хасана?
— Ну вот, ты тоже об этом подумал. Пусть аллах покарает меня за грешную мысль, если это не так.
— Может быть,— угрюмо ответил я.— С людьми всякое бывает.
— Надо бы с ним поговорить. Зачем ему напрасно страдать.
— Ты думаешь?
Он удивленно взглянул на меня, не понимая моего вопроса, не сознавая всего его коварства, и сказал, что ему жаль юношу, ржавчиной разъест его эта любовь без надежды на взаимность, да и позором покроет и его и нас. Позор перед людьми и перед нею, замужней и честной женщиной. Он, хафиз Мухаммед, будет молиться богу, чтоб юноша свернул с этого пути, а ему простился грех, если он не то увидел и дурно подумал.
Он был подавлен, высказав все, и раскаивался. Но мучился бы, если б умолчал.
Какое счастье было бы, окажись правдой слова этого человека, который опасается греха даже там, где его нет и в помине. А может, есть? Разве это невозможно?
Меня всколыхнула греховная мысль, я моментально развил ее, приладил ей крылья, понимая, какие великолепные возможности она таит. Я вспомнил прекрасные руки женщины, которые бессознательно гладили и жадно сжимали друг друга, неутоленную страсть, притаившуюся в ее холодных глазах, напоминавших бездонное озеро, ее безмятежное бесстыдство, с каким она мстила за что-то. Но я помнил и о том, что многое случилось, что Харун уже был убит, когда она просила меня предать Хасана. Конечно, она не знала о моем брате, возможно, никогда и не слыхала его имени, но я забывал об этом, у меня в памяти она осталась жестокой, как и ее муж, кадий, они оба были для меня кровожадными скорпионами, мое сердце не могло желать им добра. Поэтому ненависть ликовала во мне: какое счастье! Я увидел ее в миг слабости, подавленную молодостью Юсуфа, и кадия — униженного извечной оправданностью греха.
Но я тут же отогнал от себя эту мысль, понимая, как она низка, сознавая, что меня унижает желание мелкой мести. Мне открылось еще одно важное обстоятельство: я увидел свое бессилие, свой страх перед ними, а страх и бессилие рождают низменные инстинкты. Мысленно я предоставил биться другому, и пусть минуту, но со стороны радовался их поражению. Но каково же было это поражение, чего стоило это сведение счетов в сравнении с тем, что потерял я?
Читать дальше
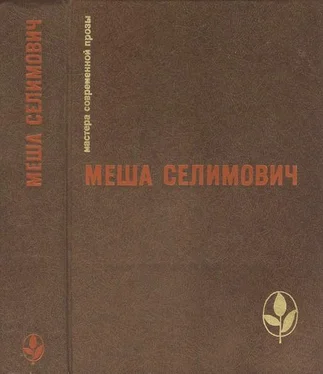


![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)