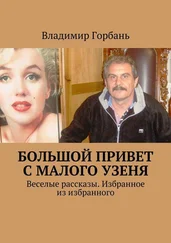— Ты взрослый,— хмуро ответил человек,— и мне бы не следовало давать тебе советы. Но лучше тебе не вмешиваться.
— Иди домой, шейх Ахмед,— сказал хаджи Синануддин на удивление спокойно.— Спасибо тебе за дружеские слова. И вы, добрые люди, расходитесь. Произошла какая-то ошибка, она наверняка будет исправлена.
Все так думают: ошибка. А ошибки нет, существует лишь то, чего мы не знаем.
Человеческая гроздь раздвинулась, и стражники увели хаджи Синануддина. Я смотрел им вслед, стоя на месте, меня тоже так вели, и Харуна, только никто не вышел сказать о нас доброе слово. Я сказал его и знал, что я выше их. Меня не волновало, что схвачен хороший человек, потому что, если б дело обстояло иначе, все это не имело бы никакого смысла, ничему не служило бы. Если он и пострадает, это послужит более важной и большей цели, чем жизнь или смерть одного человека. Я сделаю для него все, что в моих силах, а там пусть аллах решает, как знает. К счастью, того, что было бы самым бессмысленным, не произошло: его сразу не выпустили.
Люди пошли вслед за хаджи Синануддином и стражниками, и, пока последние заворачивали за угол, я увидел моллу Юсуфа возле какой-то пустой лавки. Я не окликнул его, он сам приблизился как зачарованный, с испугом в бегающем взгляде. Чего он боится? Мне показалось, его взгляд и его мысль не следуют за хаджи Синануддином, они заняты только мною, застывшие, перепуганные, не решающиеся избежать меня.
— Ты здесь стоял все время?
— Да.
— Почему ты так смотришь на меня? Ты испугался? Что случилось?
— Ничего.
Он с усилием попытался улыбнуться, но это походило на судорогу, на спазм, и опять выражение испуга, которое он тщетно пытался скрыть, появилось у него на лице, уже начавшем блекнуть, терять свою свежесть.
Я пошел по улице, он — следом за мной, моею тенью.
— Чего ты испугался? — повторил я тихо, не оборачиваясь.— Произошло что-нибудь непредвиденное?
Он поспешил нагнать меня, словно опасаясь пропустить хоть одно мое слово. Но не из любви.
— Я сделал все, как ты сказал. Я обещал и сделал.
— И теперь тебе обидно?
— Нет, мне не обидно, мне ничуть не обидно. Я сделал так, как ты велел, ты сам видел.
— Ну и что?
Я повернулся к нему, может быть, слишком быстро, удивленный его дрожащим голосом и прерывистой речью, злясь на себя из-за того, что спрашиваю об этом и что это меня касается, но я хотел знать, не случилось ли что-нибудь, в чем он не смеет признаться, поскольку сейчас любая ошибка могла стать роковой. И когда я внезапно взглянул на него, может быть из-за неожиданности или угрозы, прозвучавшей в моем голосе, он вздрогнул, невольно замер на месте, словно сраженный ударом или парализованный ужасом, а лицо его превратилось в маску испуга. И тут я понял: он боялся меня. В этом убеждали его раскрытые губы, сведенные мышцы не могли привести их в движение и закрыть, скорчившееся тело, не выдержавшее в какой-то момент, до краев наполненное ужасом. Это продолжалось мгновение, совсем недолго, потом сократившиеся сосуды пропустили замершую кровь, губы приобрели свою обычную форму, крохотный голубой шарик в середине зрачка снова ожил.
— Ты меня боишься?
— Не боюсь. Чего мне бояться?
Меня охватывал гнев, и я ничем больше не мог его сдержать.
— Ты посылал людей на смерть, а теперь судороги сводят тебе кишки, ибо ты увидел, что я могу быть опасным. Я не выношу твоего страха, ибо это путь к предательству. Берегись. Ты сам согласился, ходу назад нет. Пока я тебя не прогоню.
Меня прорвало неожиданно, словно вдруг возникла необходимость избавиться от груза, выговориться после долгих часов напряжения. Из меня выплескивался мутный осадок, которому разум и осторожность не позволяли прежде подняться. Может быть, и сейчас было неразумно и неосторожно так поступать, но, бичуя парня давно живущими в моей душе словами, я чувствовал, как неудержимо они рвутся из моих жил, наполняя меня сладостью, о которой я не имел понятия. Когда первая вспышка ослабла и когда я заметил, какое впечатление оставляет на лице юноши одолевшая меня волна ненависти и презрения, меня вдруг осенило, что его страх может оказаться полезным: он привяжет его крепче, чем любовь.
Его ошеломленность доставляла мне удовольствие, теперь он видел перед собой совсем другого человека, не того прежнего шейха Нуруддина. Этот юноша помог умереть тому спокойному и мягкому человеку, верившему в мир, который не существует. Новый, теперешний, родился в муках, и только вид его остался прежним.
Читать дальше
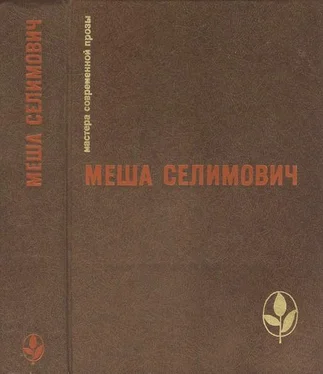


![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)