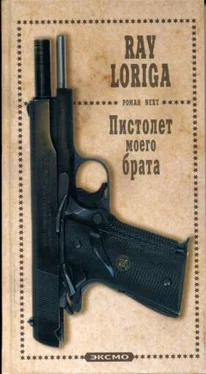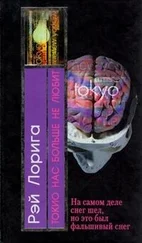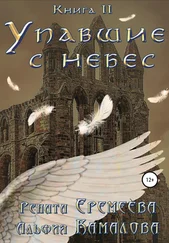– И твоей душой.
Я думаю, они сами толком не знали, куда заехали, но там было море пшеницы, огромное море пшеницы, и когда они забрались на крышу машины, он в своих черных джинсах в обтяг и в своих сапогах из змеиной кожи и она в своих обрезанных штанах и со своим телом, самым прекрасным на свете, и когда оба подумали: именно так все должно быть, и именно так никогда и не бывает, когда они забрались в эту пшеницу, когда все, что они могли видеть, была пшеница, и только пшеница, когда они подумали, что любят друг друга, или он подумал, что любит ее, или даже она так подумала, а все остальные в это время думали как раз наоборот, думали, что с этим надо как можно скорее покончить, хотя ничего еще почти и не началось, когда весь остальной мир сунул свою блядскую рожу в эту пшеницу, чтобы посмотреть, чем они там занимаются, – вот тогда, именно тогда, они подняли из пшеницы свои головы, и свои тела, и всю свою любовь, и сели в машину, и поехали прочь, и никогда больше не оглядывались назад.
По радио передавали «Let Me Get into Your Fire» [7].
Он сказал:
– До Хендрикса ничего и не было.
Потом оба пристегнули ремни безопасности.
Она сказала:
– В этих европейских тачках и захочешь, а не убьешься.
Издали было видно, как поле пшеницы становится все больше и больше, а они сами – все меньше и меньше.
Облака между тем были похожи на все, что угодно, точнее, вообще ни на что.
Ничто, абсолютно ничто не может быть мертвым, пока не перестанет шевелиться.
– Он не шевелится.
– Да, совсем не шевелится.
Он ударил лежавшего ногой но лицу. Хотя на самом деле нет – он просто хотел проверить, жив ли тот.
– Так и не шевелится.
Он подсунул носок ботинка под ухо мертвеца и дернул кверху. Голова слегка подпрыгнула, а потом вернулась на свое место.
– Кажется, он умер.
Она была напугана больше, чем птенец в преисподней. Тут кто угодно испугался бы. Я хочу сказать, в этом не было ничего удивительного. Мой брат убивал людей, и это действительно было страшно. Она была испугана, я был испуган, все были испуганы.
– Поехали отсюда.
Они забрались в машину. Он рванул с места и дальше вел молча, пока все не осталось так далеко, что уже не казалось реальным.
– Знаешь такую песню?
Он начал напевать песню Леннона «Woman is the Nigger of the World» [8].
– He знаю, но мне нравится.
Потом они замолчали, и молчали долго. Все, что есть в мире, проносилось за стеклами их машины: дома, реки, заводы. Все было как-то связано между собой. От каждого зеленого поля с необычными деревьями на нем можно было ждать чего угодно, или можно было не ждать ничего от всего этого, вместе взятого.
– Ты меня любишь?
Она снова разделась. Она была прекрасна, я уже говорил. Он не знал, куда глядеть.
– Конечно, я люблю тебя.
– Я могу верить твоему слову, слову убийцы-насильника?
– Да.
Она показала ему на заросли рыжих волос, очень курчавых и ровных, как будто газон рыжей травы. Маленький безмолвный пожар.
– Видишь это?
Не видеть этого было свыше человеческих сил.
– Это все, что у меня есть, и это все, что я собираюсь тебе дать.
В этот момент дорогу перед ними переехал грузовик, так близко, что брату пришлось резко крутануть руль. Машину не сразу удалось выровнять, а потом мой брат сказал:
– Это так красиво, что просто не верится, что оно принадлежит только тебе.
Она снова прикрыла все руками, словно прятала сокровище.
– Так-то лучше.
Как передавало телевидение, в это время их уже считали покойниками.
Она что-то напевала, кажется из «Sonic Youth» [9], пытаясь воспроизвести шум электрических примочек. Она пела какие-то слова, а потом снова принималась изображать гитары. Получалось у нее очень даже неплохо. Она допела до конца и вдруг посерьезнела, словно вспомнила про что-то грустное.
– Знаешь что?
Он не мог знать, поэтому даже не ответил.
– Однажды я видела по телевизору документальный фильм про скинхедов. Про этих, которые ходят с бритыми головами и которые самые отвратительные люди на свете.
– Я знаю, о ком ты, хотя предпочел бы не знать.
– Мне они тоже совсем не нравятся, дело не в этом. Дело в том, что в фильме рассказывали про банду, которая жила в Алабаме. Там были одни дети, некоторым еще десяти не исполнилось, другие были чуть постарше, все носили татуировки со свастикой, и сапоги, и ремни, и футболки с Гитлером и всякое такое. Они жили в доме ненормального по имени Риччио или как-то так, он был старый и заботился о них, и показывал им фильмы про войну, и делал из них таких же сумасшедших, как он сам. Это было как семейство сумасшедших.
Читать дальше