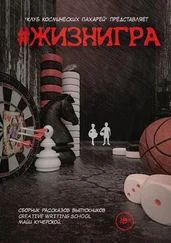Потом долго лежала в комнате, сжавшись под одеялом. Не плакала наконец. Просто молчала. Копотов ворочался на полу, кряхтя, на жиденьком матрасе. Жестко как, блин. Да еще пришлось выпрашивать. Унижаться перед комендантом.
– Иди ко мне, Саня.
Он замер, перепуганный. Показалось?
Нет, не показалось.
– Холодно же на полу. Иди. Если хочешь, валетом ляжем.
– Глупости не пори.
Копотов зажмурился даже, как будто попытался спрятаться в темноте внутри темноты, задышал изо всех сил, притворяясь спящим. Всхрапнул старательно, поддувая носом. И сам не заметил, как заснул – легко, спокойно, будто снова был маленький и обнимал во сне игрушечного зайца, розового, стыдного, девчачьего, но любимого до потертостей, до дыр, до потери пульса.
За час до рассвета он проснулся от игольчатой боли в затекшем плече. Она лежала рядом, на полу, упершись ему в бок острыми коленками. Спутанная пушистая коса щекотала щеку. Ресницы какие длинные. Синие прямо. Копотов покраснел, неуклюже попробовал хоть как-то высвободиться, спастись, не потревожив. И она, не открывая глаза, пробормотала – ты самый-самый лучший на свете.
Копотов замер, застигнутый врасплох, не уверенный вообще, что это всё ему предназначалось: и ресницы, и коса, и эти слова, – точнее, совершенно точно уверенный, что не ему. Но она потянулась, потыкалась носом ему в подмышку (Копотов мысленно охнул, припоминая последнюю помывку: – вчера, господи? Вот черт, позавчера!) и уверенно повторила – ты самый лучший на свете, Саня. Я тебе за это суп сварю.
И сварила. Копотов возил ложкой в мутном ужасном хлёбове, по очереди опознавая лавровый лист, вермишель, картошку (я в шкафу у тебя нашла, она даже не проросла почти, представляешь?), на четыре части разрезанную и до соплей разварившуюся луковицу. О, да тут тушенка! Где взяла, колись? У меня сроду тушенки не было. Она хихикала игриво, довольная своей домовитостью. Не скажу. Секрееет! Вкусно?
Копотов кивал, хотя было невкусно. Но она же старалась. Для него. В комнате было прибрано – кое-как, но рьяно. И даже к чаю нашлись и печенюшки, и рафинад, так что Копотов, глядя, как она, порозовевшая, милая, снова живая, снует от стола к полкам, звеня чашками и улыбаясь, даже подумал с сожалением, что, черт, зря я это всё. Надо было отговорить. Ну подумаешь, ребенок. Подняли бы, никуда не делись. В войну же рожали.
В комнату постучались, она побежала открывать и вернулась, сияя, с парой шоколадных батончиков. «Сникерсы», господи. Только в Москве появились. Откуда? Угостили! Копотов насупился – кто угостил? Она мазнула глазами – быстрыми, сияющими. Всегда хорошела неслыханно, когда врала. Да я на кухне познакомилась… У вас тут очень милые ребята! Копотов был иного мнения. Ты ешь, ешь, это вкусно! А ты? Да я пробовала сто раз. И вообще не люблю сладкое. Ты же знаешь.
Копотов зашуршал обертками. Поверил. Она присела напротив, подперлась кулачком, глядя, как и положено женщине, – ласково и бездумно. Молитвенно. Погладила Копотова по щеке и, пока он, ублаженный лаской и шоколадом, постыдно млел, спросила легко, необязательно – я поживу у тебя?
Копотов, для солидности помолчав, кивнул. Живи.
Через две недели он ее выгнал. Застал – в собственной комнате! в собственной койке! – с самым гнусным общажным отбросом, который десятый, что ли, год ошивался на факультете, то меняя очку на заочку, то проваливаясь в очередную академку, из которой он неизменно, как мелкий бес из преисподней, восставал. Тертый, мерзкий сорокалетний прохиндей.
Мягкий морозец сменился полноценным февралем, колюще-режущим, ледяным. Копотов еле добежал до своих заброшенных на месяц малярш, трясясь от холода, как цуцик. В голове всё прыгала, никуда не деваясь, голая лохматая жопа прохиндея, скомканное покрывало, ее разведенные доверчиво коленки.
Да хватит уже! Хватит! Три-три, нет игры!
Дверь открыл, дожевывая что-то, здоровенный бандюган в модном турецком свитере. Копотов о таком только мечтал. Адидасовские треники с генеральской ширины лампасами шуршали при каждом движении бандюгана, как дорогие шины по асфальту. Тебе чо? – спросил без любопытства, скучно. Челюсти, могучие, как у тиранозавра, двигались мерно, как будто жили сами по себе и, возможно даже, обладали, в отличие от самого бандюгана, разумом. Копотов пискнул что-то про виноват, обознался, и бандюган, даже не кивнув, захлопнул у него перед носом врата рая. В глубине комнаты тотчас слаженно, довольно захохотали, заухали девки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

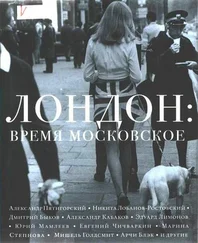






![Марина Степнова - Сад [litres]](/books/393426/marina-stepnova-sad-litres-thumb.webp)
![Марина Степнова - Хирург [litres]](/books/431962/marina-stepnova-hirurg-litres-thumb.webp)