– Выпрями спину, милочка, – говорила мисс Вивисекция. – Представь, что ты дерево и тянешься к солнцу. – Но Лору такие фантазии не интересовали.
– Не хочу быть деревом, – отвечала она.
– Лучше деревом, чем горбуньей, милочка, – вздыхала мисс Вивисекция, – а ты непременно станешь горбуньей, если не будешь следить за осанкой.
По большей части мисс Вивисекция сидела у окна, читая романы из нашей библиотеки. Еще ей нравилось листать тисненые кожаные альбомы бабушки Аделии, куда та вклеивала разукрашенные приглашения, напечатанные в типографии меню и газетные вырезки о благотворительных чаепитиях и познавательных лекциях со слайдами, что переносили вас в Париж, Грецию или даже в Индию, к последователям Сведенборга [53], фабианцам [54], вегетарианцам – словом, как могли способствовали вашему развитию; а порою нечто экстравагантное, вроде рассказа миссионера, побывавшего в Африке, в Сахаре или в Новой Гвинее, о колдовстве местных жителей, о женских резных деревянных масках, о черепах предков, покрытых красной краской и убранных раковинами каури. Мисс Вивисекция разглядывала все эти пожелтевшие свидетельства роскошной, изысканной и неумолимо сгинувшей жизни и словно что-то припоминала, нежно улыбаясь чужой радости.
У неё был пакетик с золотыми и серебряными звездочками – она приклеивала их к нашим поделкам. Иногда она уводила нас собирать цветы, мы сушили их между промокашками, положив сверху толстую книгу. Мы полюбили мисс Вивисекцию, хотя не плакали, когда пришло время расставаться. А вот она плакала – навзрыд, неизящно, как вообще все, что делала.
Мне исполнилось тринадцать. Я росла, и это была не моя вина, однако отец раздражался, точно я виновата. Он стал интересоваться моей осанкой, речью – вообще поведением. Мне следовало носить простую скромную одежду – белую блузку и темную плиссированную юбку, а в церковь – темное бархатное платье. Точно униформа, точно матроска, хотя и не матроска. Плечи прямые, не сутулиться. Нельзя сидеть развалясь, жевать резинку, ерзать и болтать. Отец проповедовал армейские ценности: опрятность, послушание, молчание и никаких проявлений сексуальности. Сексуальность, о которой никогда не говорили, следовало убивать в зародыше. Отец слишком долго давал мне волю. Пришло время прибрать меня к рукам.
Лора была ещё не в том возрасте, но её эта муштра тоже коснулась. (А что за возраст? Половое созревание, как я теперь понимаю. Тогда же я совсем растерялась. Что за преступление я совершила? Почему со мной обращаются, будто с воспитанницей какой-то странной исправительной школы?)
– Ты слишком жесток с детками, – говорила Каллиста. – Они ведь не мальчики.
– А жаль, – отвечал отец.
Именно к Каллисте я пошла, обнаружив у себя страшную болезнь: у меня между ног потекла кровь. Ясное дело, я умираю! Каллиста расхохоталась. А потом все объяснила.
– Ничего страшного – всего лишь неудобство, – успокоила она меня. Сказала, это называется «пришли дела» или «праздники» У Рини, правда, были более пресвитерианские идеи:
– Напасть, – сказала она. Рини прикусила язык и не стала говорить, что это ещё одна уловка Бога, чтобы сделать жизнь неприятнее – просто сказала, что все так устроено. Что касается крови, то надо рвать тряпочки. (Рини сказала не кровь, а грязь.) Она приготовила мне настой ромашки, по вкусу – как запах испорченного салата, и дала горячую грелку от спазмов. Ничего не помогло.
Лора нашла на моей простыне следы крови и залилась слезами. Она решила, что я умираю. Я умру, как мамочка, всхлипывала она, и ей не скажу. У меня родится серый ребеночек, похожий на котенка, а потом я умру.
Я попросила её не валять дурака. Кровь к детям отношения не имеет. (Об этом Каллиста ничего не говорила, несомненно решив, что слишком много данных повредит моей психике.)
– С тобой такое тоже случится, – сказала я Лоре. – Когда тебе будет столько лет, сколько мне. Это со всеми девочками происходит.
Лора возмутилась. Она отказывалась мне верить. Не сомневалась, что и тут станет исключением.
С меня и Лоры написали тогда студийный портрет. На мне обязательное темное бархатное платье слишком детского фасона: у меня уже ясно обозначились, как их называли когда-то, перси. Лора в таком же платье сидит рядом. На обеих белые гольфы, лакированные туфельки, лодыжки благопристойно скрещены, как приказано – правая поверх левой. Одной рукой я обнимаю Лору, но как-то нерешительно, будто меня заставили. Лорины руки сложены на коленях. У обеих светлые волосы причесаны на прямой пробор и убраны назад. Мы опасливо улыбаемся – как все дети, которым сказали хорошо себя вести и улыбаться (точно это одно и то же); так улыбаются при угрозе неодобрения. То есть, в нашем случае, отцовской угрозы и отцовского неодобрения. Мы боимся, но не знаем, как их избежать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
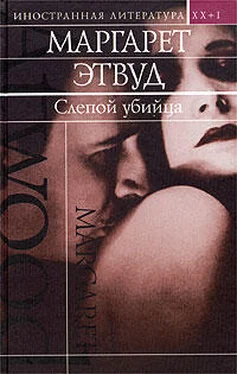



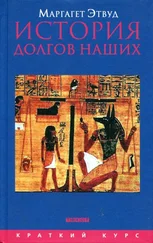
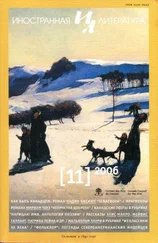
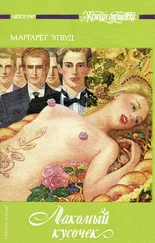


![Маргарет Этвуд - Лакомый кусочек [litres]](/books/384342/margaret-etvud-lakomyj-kusochek-litres-thumb.webp)
![Маргарет Этвуд - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/389748/margaret-etvud-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)

