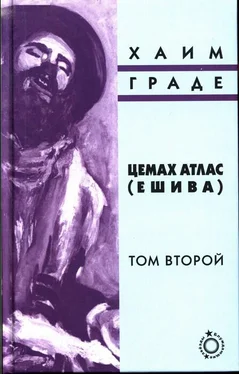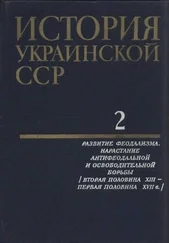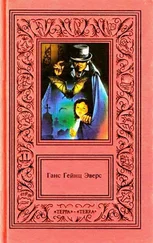Янкл-полтавчанин чувствовал, что ему придется на какое-то время смыться. О том, куда поехать, он не беспокоился. Он будет желанным гостем в любой новогрудковской общине «Бейс Йосеф», в которую приедет. Однако ему не хотелось выглядеть проигравшим. Именно тогда ему выпало распределять порции еды на кухне, потому что каждую неделю этим занимался новый ешиботник. За столом, странно скукожившись, сидел Мойше Хаят-логойчанин. Его всегдашняя деланная беспечность исчезла. Его еще жег изнутри смех мусарников, которые пару дней назад, как палками, прогнали его с собрания своими издевками. Теперь, за едой, те же самые парни враждебно молчали, и можно было догадаться, что они думают, как от него избавиться. Янкл-полтавчанин вышвырнул бы его вон, как выбрасывают в помойный ящик провонявшую селедку. Однако после истории со старостой благотворительной кассы Сулкесом полтавчанин стал осторожнее. Он знал, что руководство не хочет трогать наглого еретика. Поэтому он подал его долю этому презираемому и презирающему с таким выражением лица, как будто говорил: «Жри и подавись».
В кухне сидел и Мейлахка-виленчанин. Его глаза горели огнем победы. Хотя он был самым молодым в ешиве, он добился при помощи бывшего директора валкеникской ешивы, чтобы ему не надо было больше ходить по заранее определенным дням есть в дома обывателей и приходить на беседы в группу Янкла-полтавчанина. Он сидел себе за столом среди взрослых, а реб Янкл, глава его группы собственной персоной, его обслуживал. Полтавчанина не волновало, что этот шпингалет про него думает, но молокососа следовало воспитывать. Поэтому он пододвинул Мейлахке-виленчанину его миску супа с куском легкого и сказал:
— Если паренек-гордец хочет есть именно на кухне, а не у какого-нибудь обывателя, мы позволяем ему есть на кухне; а если паренек обжора, мы позволяем ему быть обжорой.
Круглые щечки Мейлахки вспыхнули, а глаза повлажнели, точно так же, как за три года до этого в Валкениках, когда ему говорили дурное слово. Однако, хотя Мейлахка все еще был так же чувствителен и больше не мог притронуться к еде, он сдержался, не издал ни звука, и ни единой слезинки не показалось в его глазах. Он сидел, опустив голову, смотрел в свою миску и молчал. Окружавшие его старшие ешиботники либо не заметили этого, либо это их не волновало. Только Мойше Хаят-логойчанин искоса взглянул на него.
На этот раз ешиботники поели, не произнося никаких слов Торы, они прочитали положенное благословение после трапезы и все сразу направились к двери. Они были не в силах просидеть хотя бы одну лишнюю минуту в обществе логойчанина, это заклятого врага ешивы. Мойше Хаят вышел из кухни последним и увидел, что на улице стоит мальчишка и вытирает глаза. На улице Мейлахка больше не смог сдерживать слезы.
— Вы плачете? — положил ему на плечо руку Мойше Хаят. — Вы у них еще не раз поплачете, пока не вырастете и не сделаете так, чтобы другие из-за вас плакали. Такова стезя мусарников.
В новогрудковской ешиве, не менее, чем зажигать огонь в субботу, избегают говорить с младшими об испортившемся старшем ученике, чтобы младшие не стали ему подражать. Мейлахка-виленчанин не знал, почему этот парень не приходит в ешиву учиться, и потому сразу же ощутил к нему доверие:
— Вы тоже плакали?
Из горла Мойше Хаята-логойчанина вырвался хриплый смешок. Он был так огорчен, что даже забыл, что разговаривает всего лишь с мальчишкой. Ого, сколько он наплакался у новогрудковцев! Первые годы во время молитвы и изучения книг мусара он плакал, оттого что недостаточно набожен. Потом он плакал потому, что его доводили до этого мусарники.
— А почему вы не уехали в какую-нибудь другую ешиву? — спросил его Мейлахка-виленчанин и рассказал, что он уже хотел было уехать в другую ешиву, но тут его бывший директор ешивы из Валкеников реб Цемах Атлас выхлопотал, чтобы Мейлахке не надо было ходить есть в дома обывателей и не надо было приходить на собрания группы, возглавляемой реб Янклом-полтавчанином.
— Вы ведь видите, что даже реб Цемах Атлас не смог добиться, чтобы глава вашей группы реб Янкл не доводил вас до слез, — Мойше Хаят начал остерегаться, как бы не сказать лишнего.
Он пригласил Мейлахку на квартиру, в которой жил, пообещав чем-нибудь угостить его. Ведь он видел, что виленчанин ничего не ел на кухне. Дома он пообещал ему рассказать, почему не уехал в другую ешиву.
Мойше Хаят-логойчанин угостил своего гостя хлебом, твердым сыром, яблоком, квартой холодной воды и смотрел, как набожно паренек зажмуривал глаза, произнося благословение после трапезы. Прочитав благословение, Мейлахка-виленчанин вздохнул, ему все-таки было жалко, что он сегодня пропустил второй урок Геморы в ешиве. Принимавший его Мойше Хаят тоже вздохнул. Он вспомнил о том, что, когда он был именно в таком возрасте, как сейчас Мейлехка, у него не хватило ума заниматься учебой с постоянством. Он, точно так же, как и другие новогрудковцы, ищущие пути, рвал у себя волосы на голове и трудился над тем, чтобы переломить собственный характер, пока не вырос невеждой. Сказать свой собственный комментарий на какой-нибудь стих из Танаха или Талмуда он умеет лучше других, но точно так же, как они, толком не знает ни единого трактата. Понял свою ошибку он только годам к восемнадцати. Ему было уже стыдно ехать в Радунь и сидеть на одной скамье с двенадцати-тринадцатилетними мальчишками.
Читать дальше