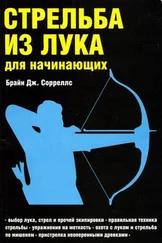Грузовичок шарахался на колдобинах плохо наезженной дороги. Тоска и отвращение одолевали Протасенко. С той минуты, как утром прочитал записку Боярского, его не покидали ми два чувства. Что-то похожее на детскую обиду было в них. «Можем быть, только я один такой , донкихотствующий?»
Где-то поодаль этих мыслей саднило душу, как еле приметная царапинка, и еще одно… ощущение не ощущение, подозрение не подозрение, а так… нечто, словами не выразимое. Он сам давеча удивился, как испуганно метнулась душа, — ни с того ни с сего, казалось бы, — когда через час после разговора с ним Федоров уже пригнал грузовик на Тверскую и позвал Протасенко выходить. Двое молчаливых людей в мужицких тулупах лежали в кузове. Коротко и внимательно глянули ему в лицо, когда он перелез через борт, — как-то не так глянули! — молча отодвинулись освобождая место между собой на приготовленном для него тулупе. И знакомое чувство, привязавшееся к Протасенко не сегодня и не вчера, — чувство, что он под конвоем, мимолетным сквознячком обвеяло душу.
Если бы была охота и Протасенко стал бы внимательно исследовать природу своей странной, неожиданной тревоги, то, пожалуй, он пришел бы к одному-единственному доводу: люди, лежавшие в кузове, никогда не были офицерами . И было странно, что Федоров, один из вожаков офицерской организации, почему-то предпочел взять в экспедицию именно таких людей, а не офицеров.
Впрочем, Протасенко не желал подобных размышлений. Гораздо легче и проще было отмахнуться: «Ну и черт с ним! Везут и везут. Что будет, то и ладно…» — нежели всерьез задумываться и терзаться сомнениями.
Он задремал, сквозь сон с удивлением отмечая, что они все еще едут, не встали среди бела поля, что отчаянно и мужественно дребезжит еще этот хрупенький грузовичок, с мукой одолевая дорогу.
Он проснулся с мокрым от слез лицом; ему приснился отец. Машина стояла. Федоров громко переговаривался с шофером. Протасенко выбрался из-под тулупа, разбросал солому, выглянул через борт.
Однако долго он спал. День уже перевалил через середину. По обе стороны дороги тянулось заснеженное поле. Посвистывал ветерок, свевая с закоченелой земли скупой сухонький снег.
— Слезайте, подпоручик! — сказал ему Федоров. — Дальше дороги нет. Видите, как перемело?
Чуть дальше дорога ныряла в низинку между всхолмиями, и там пышными застывшими волнами лежал нетронутый снег. Проваливаясь по колено, оттуда брел человек. Это был один из соседей Протасенко по кузову. С сильным, кажется латышским, акцентом еще издали он крикнул:
— Нет дороги! Там и дальше вот так… — и он сделал рукой волнообразное движение.
Федоров махнул рукой в сторону поля:
— Где-то там железная дорога. Придется идти пешком.
— Где мы? — спросил Протасенко. После сна его встряхивало от озноба.
— Верстах в тридцати за Серпуховом. Как бы то ни было, мы намного опередили Боярского. Ни сегодня, ни завтра из Москвы ни один состав не отправляется, а мы — вон уже где!..
Общими усилиями помогли грузовику развернуться. Шофер на прощание протянул кусок хлеба.
— Возьмите. Неизвестно, как все у вас будет, пригодится.
Машина завыла надсадным дребезжащим тенорком, побежала среди серого поля. Осталось только облако сизой вони.
К полотну железной дороги вышли в сумерках.
— Вот она, родненькая! Вот она, железненькая! — приговаривал Федоров, крест-накрест колотя себя руками по бокам. — Теперь-то не пропадем!
Протасенко смотрел на рельсы равнодушно, с некоторой даже тупостью во взгляде. За эти несколько часов перехода унывная скорбь заснеженных полей уже вполне поглотила его. Он словно бы стал уже частью — малоодушевленной частью — этих сумеречных равнин, и ничто уже всерьез не трогало его.
…Он почувствовал на себе чей-то взгляд и медленно повернул голову. Один из их маленького отряда — не латыш, а другой, помоложе, — с простодушным любопытством разглядывал его сбоку. Встретив глаза Протасенко, сморгнул, отворотился, стал что-то нашаривать в карманах шинели.
И вновь тревога вяло шевельнулась в душе Протасенко. «Так смотрят на чужака, — подумал он, — на своих так не смотрят».
Заночевали в брошенной будке обходчика. Изломали на дрова забор — истопили печь. Из сарая принесли сена, навалили на пол — стало и вовсе тепло. Федоров насобирал в подполе с ведро проросших картофелин — наелись до отвала.
Протасенко сидел, прижавшись спиной к горячей печи, один-одинешенек, и ему было хорошо.
Читать дальше