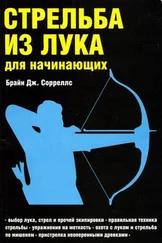И он открыл глаза.
— Ф-фу! Наконец-то! — с несказанным облегчением сказала Сандра. Лицо ее было заревано. — Я тут чуть не расплакалась из-за тебя.
Она в изнеможении от усталости и счастья опрокинулась на траву и тоже стала смотреть в небо.
В небе плыли облака. Пролетела чайка.
— А вообще-то интересно, Тимочка. Что великий царь Даут Мудрый подарит нам на свадьбу? — спросила Сандра.
И с искренним интересом повернула лицо к Тимуру в ожидании ответа.

Со сновидения все начиналось — со сновидения простенького, преисполненного, однако, странной тайны и едкой отчаянной печали.
Привиделось: вошла в конуру его грустная темная женщина и склонилась над ним, и — безмолвно и почти беспечально — стала всматриваться в его спящее лицо. А он — делал вид, что спит.
Он боялся открыть глаза, потому что очень уж стыдно ему было перед этой дорогой для него женщиной: и за то, что он вот уже сколько лет такой и все никак не может найти в себе волю стать другим, но, главное, прямо-таки изжигала стыдом, вопияла катастрофическая мысль: «Господи! А на столе срач-то какой! Она же видит! Хотел ведь, сволочь, вчера прибраться!»
Потом все-таки отворил, насквозь виноватый, глаза и — ну, конечно же! — никого и ничего не увидел.
Один только серенький грязненький свет-полусвет неохотно царствовал в халупе, да медленно истаивало будто бы темноватое облачко некое, смутно похожее на силуэт этой странно-болезненно дорогой для него, незнакомой женщины. Быстренько растаяло облачко, и одна только нежная грусть-тоска осталась.
«Ох-хо-хо! — вздохнул он в голос. — Опять, что ли, жить!»
Сбросил на пол хурду-мурду, которой покрывался на ночь, сел на расхлябанном своем топчанчике и первым делом, даже как бы исподтишка, глянул в сторону стола. Зря надеялся.
Грубо раскуроченные консервные банки — и вчерашние, и недельной, и месячной давности; кастрюльки какие-то, все, как одна по пьяни сожженные; окаменевшая полбуханка черного хлеба, уже нежно-голубенькой плесенью зацветшая; тарелки с чем-то вконец заколевшим, почернелым, уже давно несъедобным, огрызки, объедки, оглодки; водочные, весело сияющие пробки в устрашающем множестве; грудой вываленные (искали вчера окурки) пепельницы…
А надо всем императорствовала трехлитровая белесой мути банка, в которой, как в кунсткамере, плавали мертвенно-серые куски аж с Нового года протухающей, самодельного посола рыбы-ставриды, один лишь вид которых вызывал у него по утрам тошнотворное отчаяние и странное, мгновенное бессилие воли.
Он подумал о давешней женщине из сна и его опять замысловато скрутило от стыда: «А каково ей-то было в такой помойке?» — подумал, как о живой.
Он сидел на краю топчана, скрючившись. Привычным жестом грел ладонью привычно ноющее брюхо и будто бы с интересам даже разглядывал красиво рифленные лепехи красной глины на полу. Углубленно размышлял: «Чьи же это сапоги могут быть?..»
Потом он мечтательно сказал себе: «А что, если мы с тобой, ДэПроклов, напрягемся и хоть какой-нибудь порядок наведем? Нельзя же все-таки так, в самом деле…» — и тут невероятно оживился.
Итак, первым делом надобно принести с улицы таз, куда все сваливать. Консервные банки — в пустое ведро, и — на сухую помойку, на окраину господского сада. Кастрюльки — за порог. Залить до поры до времени водой, пусть отмокают. Тряпку — где тряпка? — в дождевой кадке намочить, слегка отжать. Все, на столе остающееся, одним махом! к чертовой матери! в таз! Тряпку еще разок намочить и клеенку от закаменевшей грязи этой отдраить! Ать-два! Любо-дорого глядеть, какая наступила чистота!
Все это он с превеликой бодростью проделал, задницы, однако, так и не оторвав от топчана своего.
Затем, маленько отдохнув, усилился волей, не разгибаясь приподнялся и извлек из кучи окурков бычок пожирнее. Закурил и точнехонько вернулся в нагретое продавленное место тюфяка.
Снова стал сидеть, тихо претерпевая похмельную нуду в желудке и с любопытством следя квелые, серенькие, бестелесные мыслишки, которые, подобно сонно-очумелым жукам-плавунцам, коротенько и бестолково дергались, надолго вдруг замирая в оцепенении, на поверхности мелко дрожащего студня, каковым, вместо мозгов, полна была его голова… и все крутилась-крутилась, надоедно повторяясь, фраза: «Нет того веселья… то ли куришь натощак… то ли пьешь с похмелья… нет того веселья… то ли куришь натощак…»
Читать дальше