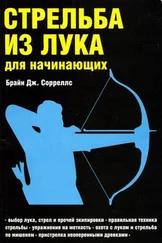— … солнце правды Христос-бог наш! Хвалим тя, благословляем тя, кланяем ти ся, славословим тя, благодарим тя, великой ради славы тво-о-е-ей!
Богородица вдруг взвизгнула:
— Ой, леший, жжеть!
Рейнштейн аж зашелся от смеха.
— Ти-и… — запищал сквозь хохот. — Ти-и-ирпи! Христос тож-жа ти-и-и-рпел, нам тожжа велел!
Рыжая, однако, уже ерзала от боли, потом ударилась вдруг в басовитый вой.
В дверь забарабанили. Рейнштейн вмиг потерял веселость. Как стоял на коленях, так и пополз к дверям, выставив вперед руку с револьвером, пьяно заваливаясь на сторону.
— Кто? — припадочно крикнул он. — Кто стучит?
Из-за двери загрохал угрюмый бас:
— Угомонись, сволочь! Второй час ить.
— От двери! — заходясь крикнул Рейнштейн. — Стрельну! Убью-у-у!
В коридоре шарахнулись, и бас промолвил заметно сбоку:
— А все же угомонись. А бабу не мучай. Они тоже, бывает, живые люди…
— Мо-олчать! — жандармским голосом взвизгнул Рейнштейн. И вдруг от крика этого что-то в нем будто бы надорвалось.
Прикрыл лицо локтем, как от резкого света, ударившего в глаза. Закачался на коленях, глухо замычал.
Баба плакала теперь потихоньку, отколупывая засохшую горчицу с кожи.
Он подошел к ней, стал глядеть.
— Будет уж вам… — просительно сказала рыжая.
— Непременно-с. Пожалуйте к рукомойничку. Омовение, так сказать, ежели дозволите… и своими власами осушу, аки Христос-бог наш и Магдалина-грешница…
Когда она вернулась от умывальника, Рейнштейн спал мертвецким сном, голову уронив в тарелку с селедкой.
Женщина потолкала его. Потом, быстро одевшись, извлекла из сюртука бумажник и вычистила. Ушла, не затворив даже дверь.
Качалась, пробираясь по коридору, бормотала под нос:
— Зараза какой. Рупь обещал, а сам вроде как спать! Смертным боем бить будет, а не признаюсь. Не брала и не брала, и все тут!
* * *
Его оглушило, и прежде чем потерять сознание, он изумился силе, с которой его вдруг бросило назад, головой в стропило. В этом удивлении была еще и обида: за что ж ты меня так? с такой-то злобой? ведь я же…
Он недолго отсутствовал. Синий пороховой дым еще плавал тонкими волоконцами. И пах он приятно — чесночно, остро.
Он сел и опять удивился: как трудно сесть. У него ничего не болело, но он вдруг упал набок и его стошнило.
Он испугался и заплакал: мамочка-мамочка, дедушка дорогой…
Ладонь была клейкая. Он раскрыл ее и увидел густую, как сироп, черную кровь в ладони. Мамочка-мамочка, дедушка дорогой…
* * *
В солнечном блеске, в капельном звоне наступило следующее утро. Под окном базарили воробьи. В безукоризненной голубизне кротко и празднично сияли церковные купола.
«Какой нынче день? — думал Иванин, глядя на город из Ольгиного окна. — Ведь не воскресенье же? А кажется, что воскресенье. Будто бы счастье какое-то, праздник, тишина в душе…»
Сзади послышался осторожный шорох, скрип пружин в диване.
Иванин залился краской.
«Нельзя, господа, слишком боготворить женщину, нельзя! Наутро они будут думать о рейнштейнах — нагло-уверенных в себе, не верящих ни в каких богов…»
Он не знал, уходить ему или оставаться.
В подворотне напротив прыгал с ноги на ногу Антон Петрович. «У него же чахотка, — подумал студент. — Зачем же он дежурит… Она никогда не скажет, где искать Рейнштейна, теперь-то я в этом уверен…»
…А Ольга глядела в спину Иванину, знала, о чем он думает, а сама, и вправду, вспоминала Рейнштейна — тот кошмарный, будто пьяный вечер, когда он зазвал ее «на минутку, по важному делу», в номер Мамонтовской гостиницы. И ведь знала, что нет никакого важного дела, а пошла! И что же потом стряслось с ней? Потом точно с ума сошла — опоил, что ли, чем? — такая потаенная грязь наружу полезла, и кувыркалась в этой грязи, и упивалась…
Когда очнулась, отравиться было решила. Передумала. И оттого, что передумала, еще тошнее было. А теперь вот…
Умные книги… Баратынский… Пьесы Шумана в четыре руки с кузиной… Сирень под окнами, грузная от дождя… Грезы светлыми царицынскими вечерами… На всем этом — крест!
Потому что впереди — что впереди? — опять эта грязь?! Вот только Сережа… Неприкаянный… еще и не мужчина вовсе… сутулится вот, клянет себя, волосы — сосульками…
Она глядела на него без нежности, как на чужого. И вдруг с ужасом заметила, что мысли ее снова и снова возвращаются к Рейнштейну. А грязь — становится просто словом «грязь».
Иванин, глядя по-прежнему в окно, достал из кармана серую какую-то тряпочку. Стесняясь громко высморкаться, утер под носом. И вид этой серой нищенской тряпочки вдруг жалостливой болью прошил ей душу. И боясь потерять это спасительное ощущение, она торопливо сказала:
Читать дальше