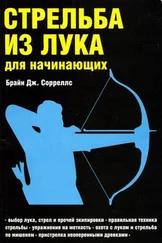Белым-бело было на улице. Не на что и глядеть. Мокрая февральская метель неслась улицей, лепила сплошь. Фонарь возле меблирашек Бердникова и окошко Олсуфия с мигающей свечой виднелись плохо. Так себе — желтенькие пятнышки. Больше на Пехотной огней не было.
Ничего не разглядел Серафим, но и то спокойней стало: горит огонек, не убег, значит, поднадзорный ему Капитон Олуфьев. Можно еще маленько в тепле посидеть-помурлыкать. Да вот только долго ли?
Извлек завернутые в платочек часы, обратил к лампаде циферблат. Час с четвертью показывал хронометр — казенное имущество Третьего Отделения. Тридцать минут до урочного часа.
А просохнут ли портянки, вот вопрос, прежде чем ему снова и подворотню? Там, согласно приказу, велено ждать ему начальства, никуда не отлучаясь, даже по нужде. Вот ведь тоже пища размышлению: к Олсуфию, похоже, начальство жалует, ну, это ладно. Так ведь в час ночи!..
…Похоже, не вздремнуть сегодня Серафиму, даже и вполглаза. Ему-то что, дело привычное, но так ведь и начальство бодрствует!
Нынче, в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое февраля тысяча восемьсот семьдесят девятого года решено, и вроде бы надежно решено — покончить, наконец, с доселе неуловимой типографией революционеров «Земля и воля». Вот уж скоро полгода, житья никакого нет от нее служилому жандармскому люду. Так и объявил на ежеутренней «распеканции» у господина Дрентельна, шефа III отделения, начальник тайной полиции господин полковник Кириллов: «Нынче в ночь, ваше высокопревосходительство…»
«Чисто саранча летит…» — думалось Коломийцеву, когда глядел он из подворотни на пролетающий вдоль улицы снегопад. Огромные лоскуты мокрого снега неслись, нигде, казалось, не опускаясь на землю. И вправду чудилось нечто злорадостное, саранчиное в этом изобилии снега, устремленного к какой-то неведомой цели.
Все было пестро и темно. В глазах мельтешило, так что Серафим, выйдя на улицу, первое время только досадливо жмурился и дергал головой. Походило на филерские сны. Это когда чего-то ждешь, а откуда ждать — неизвестно, то тут мелькнет, то там мелькнет, но это все — обман, отвлечение внимания, потому как ОН — поднадзорный твой, в эту минуту уже прошмыгнул, может, каналья, и след его уже остывает…
…Быстро утомился окружающей пестротой Коломийцев, нахохлился. Рукав вдел в рукав. Из-под башлыка только бороденка седая торчит да сокрушенные, вроде бы молитвенные слова несутся вперемежку со старческим прямо-таки кряхтением.
Был он и в самом деле старичок с виду. Хотя годами совсем еще не так древен, как хотел казаться. Ножками шаркал старательно. Горбился больше нужного. Перхал немощно и бога поминал на каждом шагу. Бороденку вот тоже лелеял соответственную — жалостную, жидкой метелкой… (Был в том свой, конечно, резон. Слыхал Серафим, что старичков революционисты стесняются до смерти убивать, когда случается в том лихая нужда. Ну да старичкам и внимания никакого…)
Из-под башлыка нет-нет да и выглядывал серенький глаз, сонно посматривая вокруг. Все было, как и допреж того: и снег, и сирые огонечки сквозь снег — и глаз снова прятался…
* * *
…На лисенка он был похож — на тощего шелудивого зверька в неволе. С утра до вечера сновал вдоль ограды, жадно припадал к щелям в заборе, все высматривал, вынюхивал, выжидал чего-то, дрожа как от холода. Иногда удавалось увидеть хоть что-то в узкой щели между досками, и тогда остренькое любопытство, и без того отчетливо написанное на его треугольной мордочке с большими, уже взрослыми хрящеватыми ушами и болезненной, тоже слишком взрослой, складкой в углах губ, — любопытство это прямо-таки разгоралось бледным жадно-радостным пламенем.
— Так… — начинал упоенно пришептывать, — вот, значит, как?! Так-так-так… — и с неимоверной быстротой и жадностью чесал себя по сгибам рук, по груди, по плечам, аж поскуливая при этом от наслаждения…
* * *
…Почудился вдруг мягкий быстрый стук, маслянистый посвист, шумное дыхание. Глаз вышмыгнул из убежища, успел схватить, как что-то темное мимолетом махнуло в проеме ворот. Сани!
Коломийцев высунулся из подворотни, стал озираться. Пестрая сетка снегопада на миг порвалась, и увидел Серафим, что поодаль, посреди дороги стоит какой-то человек и глядит на меблирашки. Кто таков? Зачем стоишь? Пошто глядишь?
Серафим из подворотной тени возник, подкрался — вот ужо я тебя, каналья! — и вдруг с трепетом душевным разглядел, что это начальство его — господин поручик Шибаев-зараза. В окошко Олсуфия глядит, ножкой, снега зачерпнувшей, рассеянно подрыгивает. С неба, что ли, али с санок свалился?
Читать дальше