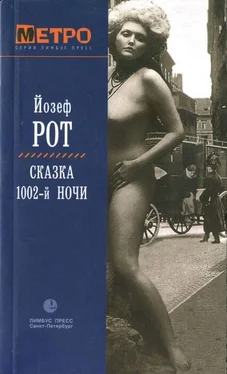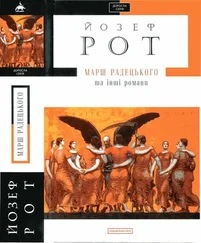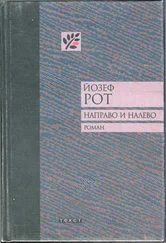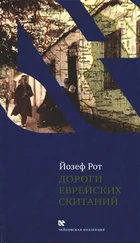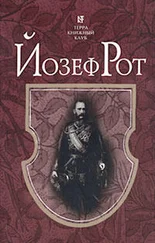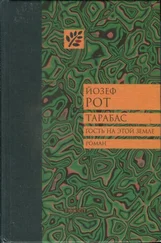Единственным по-настоящему пострадавшим оказался ротмистр Тайтингер. Ведь всего через день после отбытия августейшего гостя барона освободили от обязанностей выполнять особые поручения и откомандировали в полк.
Вся эта фатальная история канула в Лету, то есть в тайные архивы полиции. Так что и впредь нам не удастся узнать, по каким именно мотивам бедного Тайтингера столь стремительно вернули на гарнизонную службу.
Размышлять над этой финальной историей — вот и все, что оставалось делать барону в маленьком силезском гарнизоне. И он в достаточной мере разобрался в ней: погрузившись, так сказать, на определенную глубину в собственное сознание, он вынес себе крайне суровый, на его взгляд, приговор: он решил, что отныне выпадает из категории «очаровательных», они же «шарман».
С этого времени он и начал пить. Несколько раз он собирался написать графине В. и попросить прощения за то, что в некотором смысле выдал ее персу. Но порвал все письма — и первое, и второе, и третье, после чего запил еще сильнее.
Часто ему снился тот момент, когда он, спускаясь по лестнице, столкнулся с поднимающимся по ней «специалом» и тот поприветствовал его, приподняв цилиндр. И сразу же вслед за этим он во сне рушился по гладкому каменному скату. Женщины больше не радовали его, служба тяготила, товарищей по полку он не любил, полковник был «пошл». «Пошлым» был и город, в котором стоял полк, а уж жизнь и вовсе была даже хуже, чем просто «пошлой». Хотя соответствующее — более сильное — выражение в личном словаре Тайтингера отсутствовало.
Он скользил по наклонной плоскости, он опускался. И сам чувствовал, что скользит и опускается. Он охотно поговорил бы об этом с кем-нибудь, например, с Мицци Шинагль, которую он тоже иногда видел во сне. Но ему казалось, что он слишком нем, да и слишком туп, чтобы сказать что-нибудь настоящее или стоящее. Так что он молчал. И пил.
А между тем великое упоение, в котором пребывала Мицци Шинагль, затянулось недели на три. Упивалось случившимся, кстати говоря, и все заведение госпожи Мацнер. В упоении пребывал и весь Зиверинг, оповещенный о том, что Мицци Шинагль, по словам ее отца, торговца трубками, отныне принадлежит к свите шаха Персии и намерена ехать в Тегеран или, по меньшей мере, о такой возможности размышляет. Ибо весть о центральновосточном приключении Мицци Шинагль дошла в ее родной городок именно в таком, чудовищно искаженном, виде. Распространителей и переносчиков слухов, да и просто сплетников было полно. Первым распространил известие о случившемся цирюльник Ксандль. Сперва ему никто не поверил, и он так обиделся, что упросил Мицци самой явиться к отцу. Так она в конце концов и поступила. В путь она отправилась в двуколке. При посадке в экипаж Ксандль пристроился рядом с нею, но, когда они уже подъезжали к Зиверингу, пересел на заднее сиденье, напротив Мицци.
Свидание получилось душевным, даже, можно сказать, душераздирающим. Старый Шинагль плакал. Не прошло и полугода с тех пор, как он торжественно заверил весь Зиверинг в том, что отрекается от беспутной дочери и никогда впредь не позволит ей предстать перед ним. Но как человеку устоять перед властью золота? Все видели, как старый Шинагль обнимает отвергнутую было дочь.
Когда Мицци вышла из отцовской лавки, зеваки на улице образовали живой коридор. Мицци в своем темно-сером костюме, в большой шляпе из синего фетра и со светло-серым зонтиком в руках выглядела мило и трогательно. Жители Зиверинга не могли бы пожелать Персии лучшей шахини. Мицци улыбнулась, сердечно поздоровалась со всеми, села в экипаж, а заднее сиденье напротив опять занял парикмахер Ксандль. Сдержанно, но бодро щелкнул кнут кучера. Туда, туда, обратно в город, в столицу, покатила двуколка. Мицци на прощание помахала рукой в белой перчатке. Старый Шинагль стоял у дверей лавки и плакал.
Это оказалось далеко не единственным духоподъемным моментом в новой жизни Мицци Шинагль. Таковых было много. Дни состояли сплошь из возвышенных и духоподъемных моментов.
Жемчуга лежали в банке Эфрусси и, казалось бы, не доставляли никаких хлопот. Но если на бедную беспомощную девицу накидывается счастье — причем с такой силой, с какой раньше на нее обрушивались только катастрофы, — какой же осторожной и рассудительной надо стать этой малышке! Необходимо обустроить новую жизнь. Нужно отдать маленького Ксандля в интернат, чтобы впоследствии из него вышел достойный человек, — да что там, пусть он лучше станет благородным господином! Как отблагодарить Мацнер? А как жениха Ксандля? Остаться ли в Вене или лучше переехать в другой город? А может быть, отправиться за границу? Она слышала о Монте-Карло и, по случаю, читала в «Кроненцайтунг» об Остенде, Ницце, Ишле, Сопоте, Баден-Бадене, Франценсбахе, Капри, Меране! Ах как велик мир! И хотя Мицци и не знала, где находятся все эти чудесные места, зато прекрасно понимала, что теперь она вольна отправиться в любое из них. Ее внезапное обогащение взволновало всех вокруг, ее же саму просто-напросто потрясло. Путаные представления о модных курортах, мебели, домах, замках, лакеях, лошадях, театрах, благородных господах, породистых собаках, садовых оградах, скачках, лотерейных билетах, платьях и портных наполняли ее ночи, когда она бодрствовала, и ее сны, когда она все-таки засыпала. Клиентов она уже давно не обслуживала. Жозефина Мацнер давала ей советы, хотя и сама была ошеломлена тем слишком большим счастьем, какое выпало на долю ее питомице. И все же благоразумия у нее хватало, чтобы давать Мицци неизменно дельные советы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу